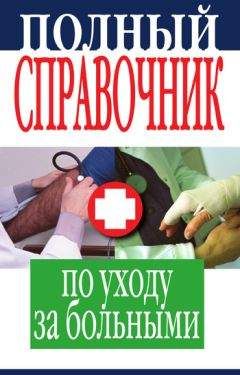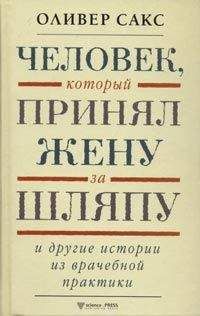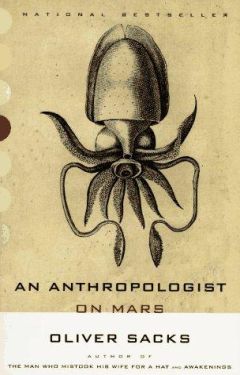Оливер Сакс - Пробуждения
За три года — с 1966 по 1969-й — мы перевели большинство больных с постэнцефалитическим синдромом (многие из них уже много лет были заточены в самых отдаленных закоулках госпиталя) в одно отделение, создав единое, органично устроенное, самоуправляемое сообщество. Мы сделали все, что было в наших силах, чтобы они снова почувствовали себя людьми, а не осужденными преступниками, отбывающими наказание в огромном холодном доме. Кроме того, мы предприняли розыск давно пропавших родных и друзей, надеясь, что дружеские и родственные связи, прерванные скорее временем и леностью, нежели враждебностью и чувством вины, могут быть восстановлены. Сам я тоже изо всех сил постарался установить с моими пациентами именно такие неформальные отношения.
Итак, те годы стали временем установления и восстановления сочувствия и родства, временем, когда начало таять строгое разделение госпиталя на злых надзирателей и несчастных заключенных. Все это наряду с другими методами и способами лечения привело к определенному, хотя и огорчительно слабому, улучшению в общем состоянии и неврологическом статусе наших пациентов. Но над всеми самыми героическими нашими усилиями, над всем, чего мы смогли и сумели достичь, довлел неимоверный груз болезни, сатурнианская сила тяжести паркинсонизма и его проявлений. За кулисами заболевания, смешиваясь с ним в устрашающий коктейль, незримо стояли упадок, духовное обнищание и искаженная действительность — следствия длительной изоляции и заточения [Очень интересно сравнить положение наших больных в «Маунт-Кармеле» с положением таких же пациентов в единственной оставшейся колонии, организованной в Англии (в Хайлендском госпитале). Хайлендский госпиталь был окружен большим садовым участком, больные имели возможность свободного входа и выхода, могли посещать соседний населенный пункт, их окружал преданный делу и больным персонал, в учреждении царила свободная и душевная атмосфера — короче, условия в Хайлендском госпитале были сродни условиям в «Маунт-Кармеле» на заре его существования. Больные «Хайленда» (многие из них находились там еще с двадцатых годов), хотя и страдали тяжелыми постэнцефалитическими расстройствами, разительно отличались от пациентов «Маунт-Кармеля». Они, при всех прочих равных условиях, были более подвижными, веселыми, порывистыми и очень активными — то есть отличались непосредственными и яркими эмоциональными реакциями. В этом проявлялся глубокий контраст, непреодолимая пропасть, отделяющая этих пациентов от погруженных в безнадежный паркинсонизм, ушедших в себя, словно заживо похороненных и отчужденных страдальцев из «Маунт-Кармеля». Ясно, что пациенты обеих групп были поражены одним и тем же заболеванием, но точно так же ясно, что формаи эволюция болезни в этих двух группах были совершенно разными. // Я так и не смог до конца понять, чем обусловлена такая разница в протекании заболевания: патофизиологической судьбой или различиями в окружении и атмосфере лечебных учреждений (между открытой, искренней и дружелюбной атмосферой Хайлендского госпиталя и холодом и отчуждением «Маунт-Кармеля»). // В первом издании книги я отдал предпочтение последнему объяснению, но тогда у меня не было объективных данных в поддержку такой точки зрения. Должен сказать, у нас в «Маунт-Кармеле» тоже есть яркие, бодрые и остроумные больные. Эти пациенты очень похожи на своих собратьев из Хайлендского госпиталя. Так что, возможно, это действительно судьба, а не атмосфера или окружение. Скорее всего имеет место сочетание того и другого. // Особые гротескные черты пациентов с постэнцефалитическим синдромом — весьма характерное явление при этом заболевании. Часто эта симптоматика умиляет, и потому в Англии этих пациентов уменьшительно и любовно называют энциками. Поначалу в «Маунт-Кармеле» мало имелось оснований называть их так, вероятно, из-за того, что они были слишком глубоко погружены в бездну своего паркинсонизма — во всяком случае, когда я впервые познакомился с ними. Наши больные сильно оживились, когда удалось приподнять завесу болезни — с помощью леводопы и (в некоторых случаях) после того, как в душе больных проснулись бурные волнения прежних дней юности.].
Некоторые пациенты впали в состояние ледяной безнадежности, внешне очень похожей на безмятежность: это была весьма реалистическая безнадежность в те дни, когда еще не было разработано лечение препаратом леводопой [Антихолинергические средства (первое из них — гиосциамин) ввел в терапию паркинсонизма Шарко, который, начиная с 1869 года, использовал для лечения этой болезни экстракт белены (hyosciamus niger). Однако такое лечение уменьшало только тремор и ригидность, но не влияло на акинезию, которая больше всего беспокоила больных постэнцефалитическим синдромом. То же самое можно сказать и о хирургических методах лечения, предложенных в тридцатые годы, — хемопаллидэктомия и таламотомия оказались бесценными способами устранения ригидности и тремора, но бесполезными в лечении акинезии. // В пятидесятые годы было обнаружено, что акинезию облегчает апоморфин, но действие его оказалось весьма коротким, к тому же он практически всегда вызывал тошноту и поэтому не нашел широкого применения. Акинезия немного уменьшалась и под воздействием амфетаминов, но применять их оказалось невозможно из-за выраженных побочных эффектов, которые неизбежно возникали при приеме заведомо больших доз (именно большие дозы были эффективны в лечении паркинсонизма). Таким образом, акинезия, единственный тяжелый симптом постэнцефалитического паркинсонизма, оставался неизлечимым до появления и внедрения в клиническую практику леводопы.]. Больные знали, на что обречены, и принимали свой жребий со всеми возможными мужеством и самообладанием. Другие пациенты (а возможно, и все они, невзирая на внешнюю безмятежность) были охвачены пронзительным чувством бессильной ярости: они каким-то обманом лишены лучшего времени своей жизни, их пожирало ощущение даром потраченного, потерянного времени. Всей душой жаждали они двойного чуда — не только исцеления от болезни, но и возмещения ущерба за то время, что потеряли. Они стремились перенестись в юность, в лучшую свою пору.
Таковы были перспективы этих больных до появления в медицинской практике нового лекарства — леводопы.
Появление леводопыЛеводопа, «чудо-лекарство» — такое его определение используется всюду, и это едва ли может удивлять, поскольку врач, впервые применивший его, доктор Джордж Корциас, сам утверждал, что леводопа — истинное чудо нашего времени [Одно из многих поразительных явлений (но, быть может, это перст судьбы?) природы заключается в том, что в растениях содержится огромное количество веществ, которые очень активно действуют на животных и в то же время совершенно «бесполезны» для самих растений. Так, наперстянка (digitalis) содержит гликозиды, которые незаменимы в лечении сердечной недостаточности; крокус (colchicum) содержит колхицин, который широко используется для лечения подагры, и т. д. и т. д. Характерно также и то, что многие из таких «природных лекарств» были обнаружены на очень ранней ступени человеческой истории и стали неотъемлемой частью народной медицины задолго до того, как были апробированы и одобрены медициной официальной. Совсем недавно с помощью химического анализа было установлено, что несколько видов бобовых (особенно конские бобы) содержат большое количество леводопы (порядка 25 г леводопы в фунте бобов). Есть предположение (оно требует тщательной проверки), что такие богатые диоксифенилаланином бобы могли бы служить народным средством лечения паркинсонизма на протяжении многих столетий, если не тысяч лет. Так, хотя мы считаем, что леводопа появилась в 1967 году нового времени, она могла с равным успехом «появиться» и в 1967 году до нашей эры.]. Очень странно слышать из уст трезвого врача и других людей, живущих в наши дни, упоминание о «чуде» и описание лекарства в понятиях тысячелетней давности. Пылкий энтузиазм, вызванный сообщениями о применении леводопы и охвативший, врачей, назначавших это лекарство, и больных, его принимавших, — это тоже поразительно и дает основание предположить, что чувства и фантазии о сверхъестественной природе этого феномена возбуждали интерес и были извинительны. «Эпопея» леводопы теснейшим образом переплетена со страстями и чувствами на грани мистики. От этого никуда не денешься, иначе мы впадем в тяжкое заблуждение, если попытаемся представить историю диоксифенилаланина в чисто литературных или исторических понятиях.
Мы предаемся рационализациям, пытаемся выделиться, притворяемся, делаем вид, что современная медицина — рациональная наука (одни факты, никакого вздора). Вероятно, так и есть. Но стоит слегка ударить по отполированной поверхности, как она немедленно раскалывается, обнажая корни и основания, старую темную душу, сплетенную из метафизики, мистицизма, колдовства и мифологии. Медицина — старейшее из искусств и старейшая из наук: разве можно ожидать, что можно уклониться от глубочайших знаний и чувств, обуревающих нас?