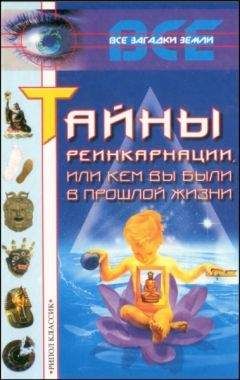Дмитрий Сулимов - Мои жизни, мои смерти, мои реинкарнации
Мы держали себя слишком гордо. Мы — смертельно греховны. Мы заплатим за это втройне. Мы заплатим слезами своих жён и матерей, мы заплатим будущим своих детей, мы заплатим своей жизнью. Никакой меч не будет нам спасением. Мы все умрём. И поскольку будущее так однозначно, то уж лучше раньше, чем закончится эта война, чтобы не видеть того, что сделает с людьми другая эпоха. Я не буду немым свидетелем этого. И если я останусь жив, когда война уже закончится, я пущу себе пулю в висок, как только моя страна умрёт. Конечно, она не умрёт совсем, она вновь, как всегда, возродится из пепла, но такой она уже никогда не будет. Никогда не будет этих лиц, озарённых светом пламени их сердец, этих глаз, наполненных пониманием смысла их жизней на нашей земле, — они потухнут, как их факелы. А такой мою страну я видеть уже не смогу… Умирать не страшно. Страшно жить без идеи, за которую стоит умереть!
Подумать только, дневной налёт! Вот ведь… Когда здесь шло производство, они не осмеливались подбираться к нам даже по ночам, а те редкие, эпизодические вылазки носили только разведывательный характер. Мощное прикрытие зенитных батарей, рассредоточенных на значительных расстояниях со всех сторон, превратило их редкие ночные налёты в крайне неэффективные попытки нанесения беспокоящих ударов, когда эти горе-бомбардировщики в панике сбрасывали свои бомбы так далеко от завода, что даже не бывало разбито ни одного оконного стекла. Да и сам наш завод, который выпускал самые лучшие в мире истребители, всегда мог бы и сам себя защитить. Это было бы делом чести! Изредка и днём залетали одинокие фоторазведчики, но быстро-быстро удирали, завидев наши истребители охранения. Вся их бомбардировочная авиация была занята другим: бомбы сыпались на наши города килотоннами, убивая десятки тысяч мирных жителей за раз. Там я и увидел весь ужас этих варварских площадных бомбардировок. Сейчас же, когда всё, что возможно, из нашего завода было уже вывезено, когда уже не было никакого противодействия с нашей стороны, когда уже даже не слышно далёких глухих разрывов от выстрелов давно снятой зенитной артиллерии — им уже просто нечего было прикрывать, — они и заявились! Они прилетели бомбить пустые коробки наших корпусов, прекрасно зная, что там уже ничего и никого нет, а их средства массовой информации с восторгом сообщат, что героическими усилиями доблестной бомбардировочной авиации полностью уничтожен мощный авиационный завод противника. Нет! Этот завод жив, он был полностью, со всем оборудованием и личным составом, эвакуирован в центр Германии, в шахты, глубоко под землю, где всякие бомбардировки были лишены смысла. Нет! Завод — это не коробки зданий, это — коллектив, слаженный многолетним напряжённым трудом, и оборудование, самое совершенное из всего, что мне доводилось видеть. Жаль только этих стен, этого огромного труда, вложенного в них. По крайней мере, чехам, которые явно попадут в зону влияния Советов, теперь он уже не достанется, значит и на наших врагов работать никогда не будет. И американцы это прекрасно понимают, ведь именно ради этого они сюда и прилетели. Ну и ладно.
Я бежал к ближайшему бомбоубежищу, расположенному на территории нашего завода. Никогда оно не использовалось по назначению, ввиду отсутствия таковой необходимости, но теперь оно мне и пригодится. Хотел я жить, или уже не особенно — это только мои личные мысли, и они мне не указ. Моя жизнь принадлежит Германии, и я сделаю всё, чтобы сохранить эту жизнь, пока в ней есть необходимость, пока я могу приносить пользу моей стране. Ничего не кончено, пока мы сами так не решим…
От первых же разрывов бомб закладывает уши, и ты уже ничего не слышишь, будто нырнув глубоко под воду. Лишь ударные волны взрывов толкают тебя со всех сторон, почти сбивая с ног, да фугасные взрывы взметают вверх широкими фонтанами куски разорванного бетона и кирпича, да земля, содрогаясь, каждый раз как уходит, пропадая куда-то из-под ног. Лишь мозг в этой гулкой, бушующей круговерти, как взбесившийся метроном, под стать сердцу, бьёт в помутнённое сознание одну и ту же мысль: «надо бежать, надо бежать, надо бежать…» ради нашей страны, ради наших детей, ради их будущего… Бомбы стали рваться совсем недалеко. При каждом взрыве сердце взрывается ответной дробью гулких ударов, а если бомба падает близко и впереди, ударной волной, как широкой доской наотмашь бьющей в грудную клетку, перехватывает дыхание, и тогда хватаешь воздух ртом, как рыба, выброшенная на берег… Они сыпались волнами, одна за одной, то впереди меня, то позади, снова и снова проходя одни и те же участки. Это только снаряды в одну воронку два раза не попадают, а у американцев этих бомб столько, что и воронок, как таковых, будет не различить потом в этом месиве… Ах, чёрт! Моя «ласточка»!.. Она припаркована далеко, на краю завода, но бомбардировщиков в небе так много, чтобы за один раз можно было перепахать всё, и моя машина наверняка окажется изуродованной, если вообще сможет сохраниться. Жаль. Вечная ей память!
Эта бомба разорвалась слишком близко… Взрывной волной меня подхватило, как щепку океанским валом, и швырнуло на искорёженный железобетон. Торчащая из него арматура проткнула мою грудь, впившись прямо в сердце. Последнее, мелькнувшее в моём сознании, было лицо моего сына, прищурившегося против яркого света.
Германия. Годы жизни: 1904 г. — 1944 г.
Часть III
Страшное, пьяное животное вваливается в большой замковый зал. Стены, сложенные из больших каменных глыб, дубовые потолочные балки метров в двадцать длинной, вдоль всего зала, являющиеся перекрытием ещё более толстых несущих поперечных балок — всё это уже почернело от времени и копоти факелов. Огромный длинный стол почти в длину всего зала, две таких же длинных скамьи по обе стороны от этого стола, да огромный камин посередине стены, вдоль которой и стоит этот стол со скамьями. Большой лестничный пролёт в два яруса, змеёй поднимаясь через угол вдоль стен, ведёт куда-то вверх на второй и третий жилые этажи здания. И только напротив меня, на противоположной стороне от входа светлеет маленькое узкое окно — бойница, сейчас открытое, но на ночь глухо закрываемое ставней. Вместе со мной в зал вваливаются ещё трое таких же существ — пьяных, заросших, одетых в тяжёлые, мохнатые шкуры животных, на которых уже стали похожи и сами. Проснувшись от шума и завидев это зрелище, испуганно вскакивают на ноги и отпрыгивают куда-то в сторону от нас две огромные мохнатые собаки, которые до этого мирно спали в тепле тихого пламени никогда не гаснущего камина. Я что-то ору, как и мои товарищи, и вдруг почти утыкаюсь в женщину, одетую в льняные светлые одежды, глаза которой полны ужаса… И я останавливаюсь в растерянности, не зная что делать дальше, потому, что мне ужасно стыдно… О, Боги!!! Когда же я уже наконец-то сдохну?!!
Я и есть — Бог!.. На несколько дней пути во все стороны от моего замка. И власть моя — абсолютна!.. И жить дальше я уже не могу и не хочу!!! Я долго и методично убивал себя — пил всё, что льётся, и жрал всё, что мне подносили, без разбора, в надежде, что хоть у кого-то хватит ума подсыпать мне хоть какую-нибудь отраву. Но всех всё устраивало, никто этого сделать и не подумал, а мой крепкий организм стоически выносил все мои издевательства над собой. Сам себя я убить не мог — мой статус этого не позволял в принципе, поскольку это было бы проявлением слабости, а Бог слабым не может быть просто по определению.
Длинные, чёрные, густые, волнистые волосы, до плеч, впрочем, как и у всех моих людей. Невысокое, мускулистое, жилистое тело с хорошей прорисовкой всех мышц, как у легкоатлета, регулярно посещающего тренажёрный спортзал, видимо доставшееся мне генетически, так как никакими упражнениями для тела я не занимался, кроме как иногда, в периоды трезвости, подобием фехтования в «бое с тенями», блуждающими в моей голове. И тёмные, страждущие глаза, наполненные дикой пустотой…
Я родился в семье обычных феодалов, каких было, наверное, много разбросано по всей территории этой дикой земли. Я живу в совсем новом, величественном, но весьма компактном замке, построенном не более каких-то четверти века назад моим дедом и отцом, — этим замком не стыдно будет похвастаться перед соседями и через тысячу лет! И такого замка более не было ни у кого! Вообще в той части Европы замков больше не было! Место для него было выбрано на высоком холме, с южной стороны омываемом маленькой речкой. Восточнее, выше по течению, эта речка приближалась к небольшому, расположенному на равнине, селению, в одну улицу, домов в двадцать, стоящих по обе стороны от центральной дороги, слегка вьющейся от них змейкой, уже по холму, прямо к воротам моего замка. Отдаляясь от селения, речка где-то внизу омывала замковый холм и тихо несла свои воды дальше на запад. Замок строился из больших каменных глыб, лежащих когда-то везде прямо на поверхности, и хотя они были разбросаны достаточно далеко друг от друга, но их с головой хватило на постройку замка, и в лесных дебрях их осталось ещё много. Эти глыбы привозились телегами со всей округи, где только можно было проехать, а самые большие куски — даже волоком. И теперь те глыбы, которым не нашлось места в стенах замка из-за их размера и массы, лежали по всему подножию холма, образуя непреодолимую преграду для противника, если таковой нашелся бы. Замок был построен очень аккуратно и быстро — всего за пару лет с небольшим, благодаря очень грамотному архитектору из территорий бывшей Римской империи, приглашённому дедом, и очень дешёвой рабочей силы, приходившей работать буквально за кусок хлеба не только со всей округи, но и издалека.