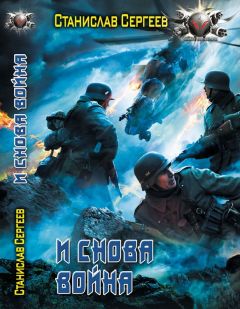Дональд Винникотт - Игра и Реальность
Едва ли есть необходимость иллюстрации для такой очевидной вещи, как игра; тем не менее я собираюсь привести два примера.
Эдмунд, два с половиной года
Мама пришла ко мне поговорить о своих проблемах, а Эдмунда привела с собой. Пока я разговаривал с его мамой, Эдмунд находился в моей комнате, и я поставил между нами стол и маленький стульчик для Эдмунда, которые он мог использовать по своему усмотрению. Он выглядел серьезным, а не испуганным или подавленным. Он спросил: «А где игрушки?» Больше, за этот час, Эдмунд не произнес ни слова. Несомненно, ему сказали, что будут игрушки; я велел ему поискать в другом конце комнаты на полу у книжного шкафа.
Заполучив полное ведерко игрушек, он играл очень сосредоточено и неторопливо, пока я консультировал его маму. Мама смогла точно выделить значимый момент в жизни Эдмунда, когда ему было два года и пять месяцев. В этот период Эдмунд начал заикаться, после чего он перестал говорить, «потому что заикание его пугало». Мы с мамой Эдмунда находились в консультативной ситуации по поводу сына и ее собственных проблем, а Эдмунд в это время выставил на стол несколько вагончиков игрушечного поезда, расставлял их, прицеплял друг к другу и возил друг за другом. Он был всего в двух футах от своей матери. Через некоторое время он забрался к матери на колени и некоторое время вел себя как младенец. Мама отреагировала и естественно и адекватно. Потом он сам слез и вновь принялся играть за столом. Все это происходило, пока мы с его мамой были глубоко погружены в серьезный разговор.
Спустя примерно двадцать минут мальчик начал оживляться и пошел в другой конец комнаты за новой порцией игрушек. Несмотря на тамошний беспорядок, он отыскал и принес клубок веревки. Мама (несомненно задетая его выбором, но не осознающая символики) заметила: «Большая часть невербальной активности Эдмунда — в том, что он постоянно цепляется за меня, ему нужно постоянно быть в контакте с моей настоящей грудью и настоящими коленями». В тот период, когда у него началось заикание, Эдмунд уже начал уступать, но вместе с заиканием к нему вернулось и недержание мочи, а затем последовала и потеря речи. В то время когда происходила консультация, он только-только начинал вновь взаимодействовать с окружающими. Мать рассматривала это как часть процесса выхода из регрессивного этапа в развитии сына.
Отмечая особенности игры Эдмунда, я поддерживал общение с его мамой.
Эдмунд так увлекся игрушками, что начал пускать пузыри изо рта. Веревочки просто заворожили ею. Его мама заметила, что, будучи младенцем, он отвергал все, кроме груди, пока не вырос настолько, чтобы пользоваться чашкой. «Он не выносит суррогатов», — сказала она, имея в виду, что он никогда не стал бы пить из бутылочки; и неприятие никаких заместителей стало устойчивой чертой характера мальчика. Даже бабушку, мать его мамы, от которой он без ума, Эдмунд полностью не принимает из-за того, что она не настоящая мама. Всегда только мама укладывает его спать. Когда он родился, у мамы были проблемы с грудью и первые недели ему приходилось изо всех сил деснами цепляться за грудь, не отпуская. Его поведение вызывало у матери прилив нежности, н возможно, именно это защитило ее от болезненного негативного ощущения себя. В десять месяцев у него уже появились зубы и он пробовал кусать грудь, но не до крови.
«С ним было не так легко, как с первым моим ребенком».
Все это требовало времени, и постоянно всплывали другие вопросы, которые мать мальчика хотела обсудить со мной. Эдмунд в это время что-то делал с кончиком веревки, который высовывался из клубка. Иногда он делал движения, как будто бы он «подключает» кончик веревки, как электрический шнур, к маминой ноге. Было заметно, что хотя он «не выносит суррогатов», мальчик использовал веревку как символ своего единства с матерью. Ясно, что веревка выступает одновременно как символ сепарации и единения с матерью через коммуникацию.
Мама рассказала, что у мальчика был переходный объект по имени «мое одеяльце» — ему годилось любое одеяло с атласной обивкой, похожей на обивку оригинала, который был в самом раннем младенчестве.
В этот момент Эдмунд довольно легко и естественно оставил игрушки, забрался на кушетку и как маленькая зверушка пополз к матери и свернулся у нее на коленях. Он оставался в таком положении около трех минут. Ее ответная реакция была очень естественной, не преувеличенной. Потом он вышел из этой свернувшейся позы и вернулся к игрушкам. Теперь он складывал веревку (которая ему безумно нравилась) на дно ведерка наподобие подстилки и начал укладывать туда игрушки, так что они лежали в чудесном мягком гнездышке, похожем на детскую люльку. Он еще раз вскарабкался на маму, опять вернулся к игрушкам и уже был готов идти домой, и мы с его мамой тоже закончили беседу.
В этой игре мальчик продемонстрировал многое, о чем говорила его мама (хотя она говорила и о себе тоже). Он сообщал нам о приливах и отливах внутри него, которые швыряют его прочь от зависимости и обратно. Так как я работал с его матерью, это не было психотерапией. Эдмунд просто показывал, что происходило в его жизни, пока мы с его мамой разговаривали между собой. Я ничего не интерпретирую и должен заключить, что этот ребенок играл бы точно так же, если бы никого не было и никто бы не смог получить его сообщение, а в данном случае это могло быть сообщением, содержащим «Я» ребенка, «Я»-наблюдающее. Когда это происходило, я был лишь зеркалом, и в соответствии с наблюдением квалифицировал это как сообщение (ср.: Winnicott, 1967b).
Диана, пять лет
Во втором случае, как и в примере с Эдмундом, мне пришлось вести две консультации одновременно — говорить с матерью, находившейся в состоянии тяжелейшего стресса, и играть с ее дочерью Дианой. Ее младший брат (он остался дома) страдал умственными нарушениями и врожденной сердечной недостаточностью. Мама пришла поговорить о влиянии этого брата на нее саму и на дочь Диану.
Мое общение с мамой длилось час, и девочка все время была с нами. Поэтому моя задача была утроенной: уделять все свое внимание матери из-за ее собственных проблем, играть с ребенком и (в целях написания данной книги) фиксировать природу игры Дианы.
Собственно говоря, именно Диана взяла на себя инициативу с самого начала: только я открыл входную дверь, чтобы впустить ее маму, вперед вырвалась маленькая девочка, которая держала перед собой маленького мишку. Не взглянув ни на маму, ни на девочку, я устремился прямо к игрушке и спросил: «Как его зовут?» Она ответила: «Просто Мишка». Между Дианой и мной очень быстро возникла сильная взаимосвязь, и мне нужно было поддерживать ее, для того чтобы делать свою основную работу — удовлетворять потребностям мамы. Диане все время консультации, конечно же, требовалось чувствовать, что мое внимание направлено на нее, но мне удалось и уделить маме необходимое ей внимание, и поиграть с Дианой тоже.
В описании этого случая, как и в примере с Эдмундом, я остановлюсь на том, что произошло между Дианой и мной, и опущу подробности консультации матери девочки.
Мы все втроем вошли в консультативную комнату и начали устраиваться: мама села на кушетку, Диана — на маленький стульчик у детского столика. Диана взяла своего маленького мишку и запихнула мне в нагрудный карман. Она пыталась понять, насколько глубоко он провалился, и стала изучать подкладку моего пиджака. Тут она ужасно заинтересовалась разными карманами и тем, что они никак не связаны друг с другом. Все это происходило, пока мы с мамой вели серьезный разговор про больного и отсталого ребенка двух с половиной лет, и Диана сказала:' «У него в сердце дырка». Можно сказать, что, пока Диана играла, она слушала лишь вполуха. Мне показалось, что она способна принять физическую (вследствие дыры в сердце) неполноценность брата, в то время как обнаружить его умственную отсталость для нее не доступно.
В игре, которую мы вели вместе с Дианой, игре без всякой терапии, мне легко было быть шаловливым и веселым. Детям легче играть, когда другой человек умеет играть и делает это свободно и радостно. Неожиданно я приложил ухо к мишке в моем кармане и произнес: «Он что-то сказал!» Ей стало все это очень интересно. Я сказал: «Я думаю, он; хочет с кем-нибудь поиграть» и рассказал ей, что у меня есть пушистая овечка, которую она сможет найти, если посмотрит в другом конце комнаты в куче игрушек под книжными полками. Может быть, мой скрытый мотив состоял в том, чтобы избавиться от мишки в моем кармане. Диана принесла овечку, которая оказалась откровенно крупнее, чем медвежонок, ей явно приглянулась моя идея дружбы между ними. На некоторое время она поместила мишку и овечку вместе на кушетке, рядом с ее мамой. Конечно же я продолжал беседу с ее мамой и заметил, что Диана сохраняла заинтересованность в том, о чем мы говорили, но только какой-то своей частью, той, что идентифицируется со взрослыми людьми и их установками.