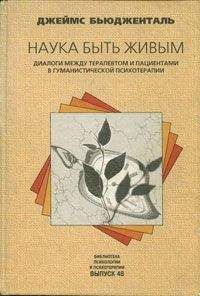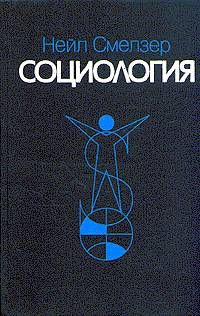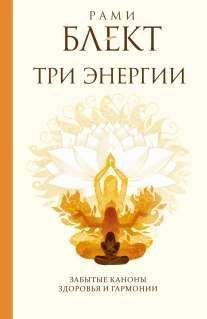Павел Волков - Разнообразие человеческих миров
Эмоциональные просветляющие переживания также благотворны. Как-то попала на спектакль «заезжих шведов-гастролеров». Они «здорово орали песни». Ей понравилась их самозабвенная удаль, во время спектакля и после него вернулось в душу ощущение свободы, будто не было и не будет всего неприятного. Когда Света бывает в любимом Ленинграде, опять-таки светлая перемена охватывает все ее существо. Итак, ясно, куда нужно идти сквозь психоз — к Оле, работе, творческому самовыражению, шведам, Ленинграду и т. п. При этом можно продолжать бредовую работу прояснения «ситуации», но только так, чтоб не было конфликта с обществом, госпитализаций, чтобы не потерять вновь обретенной связи с людьми.
Принцип следования за больнойКогда Света задавала мне вопросы, а я не знал, что сказать, то неизменно спрашивал ее: «А как вы сами чувствуете?», после чего она излагала свою версию. Я спустя какое-то время повторял ее версию своими словами, и она восклицала: «Как хорошо, что вы говорите так». Это взаимодействие я назвал игрой в «подтвердилки», так как, по сути, больная просила подтвердить то, во что хотела верить. Эта игра содержит следующую коммуникативную комбинацию: «Скажите честно, что вы думаете на самом деле, но… пусть это будет то, что мне хочется услышать».
Когда я пытался нарушить правила этой игры, то либо Света была недовольна, либо бесконечно длинный разговор ничем определенным не заканчивался. Эта игра происходила уж очень явно, и лишь шизофренические особенности мышления Светы помогали ей ее не видеть. Первый шаг от игры к самостоятельности был такой. Я ее спрашивал о том, что она сама думает, и потом, не камуфлируя факта, что это ее, а не моя мысль, добавлял: «Да, ваша мысль резонна, пожалуй, я с ней соглашусь». Света удовлетворялась этим, обнажая тем самым обстоятельство, что ей и нужно было лишь подтверждение. Получив его, она уже не интересовалась тем, что я думаю на самом деле.
Этот последний, полуигровой вариант, возможно, являлся оптимальным. Ведь совсем без подтверждений она просто не может обходиться, так как чувствует себя в жизни беспомощно, а этот вариант оставляет ей ее мышление. Когда же я не мог подтверждать ее мысли, так как они угрожали ей самой, я предупреждал об опасности госпитализации и обосновывал свое суждение. Света, пугаясь, как бы включала «другую передачу» и уже не требовала никаких подтверждений, а явно просила прямых указаний. Итак, когда Света хотела быть автономной, но при этом оставалась неуверенной, я играл роль «подтверждателя», когда же она передоверяла мне свою автономию, я оказывался «проводником». Требовать от психотической больной, как от невротика, полной автономии мне кажется клинически необоснованным и даже деструктивным. К тому же это и невозможно.
Психотерапия в периоды относительных ремиссийВ эти периоды коммуникация складывалась по типу игры в «подтвердилки», чаще в ее полуигровом варианте, так как больная все равно оставалась тревожно-неуверенной. Когда ей совсем хорошо, она не звонит, а если звонит, то мы говорим просто как давние знакомые о вещах, к ее болезни отношения не имеющих.
В тревожные периоды я неизменно выполняю роль успокоителя. Тревога — это естественный человеческий способ проживания неопределенности. У неопределенности имеются две грани. Первая, тревожная грань — это возможность угрозы, вторая, несущая надежду и радость, — это возможность благоприятного исхода. Человек, проживающий неопределенность, мечется от одной возможности к другой, от страха к надежде. Я как врач стараюсь помогать больной находить в неопределенности надежду. Больная в ремиссиях вполне допускает, что многое ей лишь кажется. Она сама это убедительно объясняет: «Когда-то меня преследовали, и вот теперь я боюсь, что это повторится, и потому так пугает все неясное в отношениях с людьми». Теперь, в ремиссиях, больной нужно решать проблему: что это — в самом деле снова все начинается или ей кажется? Каждый раз ей хочется, чтобы это была лишь видимость. С этой надеждой она звонит мне, и я всегда успокаиваю ее. Я чувствую, как ее голос становится мягче, теплее, уходят из него нотки страха, напряженности. По словам Светы, ее успокаивает даже звук моего голоса.
В депрессивные периоды моя тактика такова. Прежде всего, это эмоциональная поддержка, напоминание, что депрессия пройдет, как проходила десятки раз. Объяснение, что нельзя в депрессии принимать важные решения, в том числе о ценности жизни, так как у депрессивного человека «на глазах темные очки плохого настроения».
У больной бывают навязчивости, переходящие в автоматизмы, когда в голову лезут агрессивные, жестокие мысли. Она испытывает выраженное чувство вины за эти мысли, и мне приходится каждый раз объяснять, что эти мысли лишь в ее голове и никому от них плохо не будет. Тем более что мысли эти скорее сами думаются, чем исходят из сознательной личности, а потому ответственность за них минимальна. [Свете было стыдно, что в ее душе находится место для таких мыслей. Ей пришлось по сердцу мое объяснение, что эти мысли не свидетельство того, что она плохая, а просто понятная физиологическая разрядка ее мозга, уставшего от страха и тревог. Скрытый психотерапевтический момент состоит также в том, что я ее совсем не осуждал за эти мысли, и она не могла это не чувствовать. ] Особенно она была беспомощна, когда в голове «включалась пластинка — с Олей будет плохо, с Олей будет плохо». От этих мыслей мучилась виной еще больше, так как если с Олей будет плохо, то это из-за нее, потому что преследователи могут тронуть дочку, чтобы нанести Свете еще один удар. Я как врач понимаю, что Олю никто не тронет, просто некому трогать, и моя уверенность в этом вопросе помогает больной. Тем более что я убедил ее, что у Оли есть отец, муж, друзья, которые не бросят Олю в беде. Света сочла это резонным, и ей стало легче.
Специфической гранью психотерапии являлась духовная поддержка и помощь. Жизненная трагедия принуждает Свету идти по духовному пути от рессентимента к резиньяции (смирению), хотя бы частичной. Во-первых, потому что она уже убедилась, что бессильна перед преследователями. Во-вторых, именно рессентимент стоит в начале каждого обострения, раскручивая его. В-третьих, она сама в целях защиты стала тянуться к простой тихой жизни, в которой нет конфронтации и борьбы. Раньше она вступала в активные агрессивные отношения с людьми, в которых сама, будучи очень сензитивной, получала многочисленные раны. При такой позиции она ощущала мир ощетинившимся, плотным, жестким. Да и мог ли он быть иным при ее ранимости, претенциозности, хрупком самолюбии и настойчивости. Эта смесь хрупкости и агрессии, проецируясь, придавала миру образ чего-то грубого, тяжелого, насилующего. И вот сейчас, с течением болезни, все меньше она оказывает личностного давления [Понятие «личностное давление», которое я ввожу, созвучно лишь человеку, готовому метафорически переживать квазиэнергетические, духовно-психологические способы существования человека в мире. ] на мир.
Почему это служит цели защиты? Потому что и мир, соответственно, оказывает меньше противодавления. [Такое динамическое изменение взаимоотношения личности с миром является типичным для шизофрении. ] Но отказ от прежней духовно-психологической ориентации с ее высокими претензиями, в которые было вложено много эмоциональной энергии, очень непрост. Переход в иную манеру существования, более бедную с точки зрения Светы, может быть совершен лишь через слезы, боль, нравственный протест, ламентации и истерики. Этот переход будет удачным, если больная сможет породниться с более тихим, внешне скромным способом духовного бытия. Случится ли так? Думаю, что никто не сможет сейчас дать ответ. Я, со своей стороны, ненавязчиво помогал ей жить по-иному. Прежний проект бытия требовал изменений, так как в нем скрывались ростки психотики. Итак, проблемой выработки иного проекта бытия я, пожалуй, и закончу свой рассказ. Этот последний пункт высвечивает взаимосвязь духовной позиции и психологических проблем — тот перекресток, где духовная и психиатрическая помощь вынуждены встретиться. Статья описывает психотерапевтическую работу в 1984–1987 гг. Это был мой первый большой психотерапевтический случай.
* * *Имея в виду работу, описанную в статье, вспомним чеховский рассказ «Черный монах». По всей видимости, главный герой рассказа магистр Коврин заболевает парафренией (см. часть 2, глава 4.7). Его посещает видение черного монаха, с которым он ведет философические беседы. Монах глубоко понимает магистра, «как будто подсмотрел и подслушал его сокровенные мысли». Монах убеждает Коврина, что тот является избранным человеком, служащим вечной правде, разумному, прекрасному, божественному. Коврин счастлив вдвойне: беседам с монахом и женитьбе на духовно близкой ему девушке. У него сложились теплые отношения со своим тестем, садоводом Егором Семенычем. Садовод уповает на то, что передаст Коврину свой удивительный сад, и тот будет его беречь. Однако Коврин в своем философическом подъеме несколько выше, чем земные дела. И вот, наконец, жена догадывается, что он болен, он и сам как будто это понимает, и за дело берутся доктора. После лечения явления монаха прекращаются, Коврин живет тусклее, в нем нарастает раздражение и апатия к жизни. Умирает тесть, и погибает его роскошный сад, так как в нем хозяйничают чужие люди. Конец рассказа трагически пронзителен и просветлен: Коврин умирает, но к нему возвращается черный монах, светлая память о молодости и любовь к девушке.