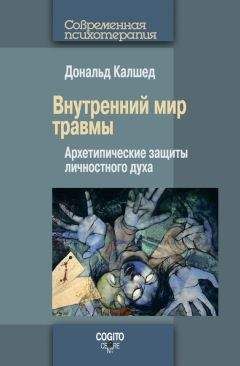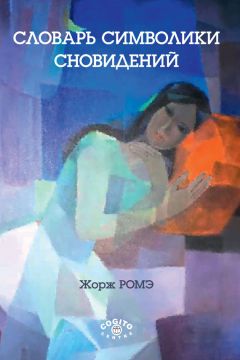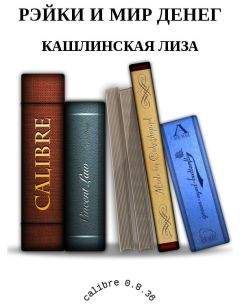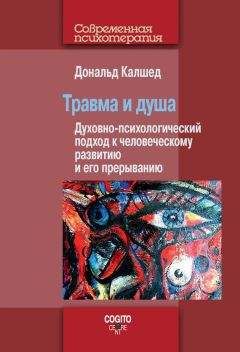Джеймс Холлис - Призраки вокруг нас. В поисках избавления
Людвиг Витгенштейн (1889–1951) остерегает нас от удела быть окончательно околдованными нашими языковыми играми, когда мы, превращая глагол в имена существительные (такие, как природа, Бог, смысл), думаем, что говорим о реальности. По его мнению, если бы мы поняли, как, вырастая, мы оказываемся в очарованном плену у тех самых инструментов, которые позволяют нам ориентироваться в мире, то обязательно хотя бы на некоторое время прикусили бы язык. («О чем невозможно говорить, о том следует молчать», – этими словами заканчивается «Логико-философский трактат» Витгенштейна.) Но мы продолжаем бормотать и временами воевать со своими соседями, защищая свой единственно правильный тип зачарованности. Сколько армий ушло губительным маршем в земли соседей во имя своего Бога, истинного Бога, не осознавая, что идут убивать, защищая лишь правильность и истинность своей метафоры! (Как однажды заметил Джозеф Кэмпбелл, миф – это религия другого человека.) Понимание того, что метафора лишь указывает в сторону тайны, но не является самой тайной, редко возникало в сердцах молодых людей, бодро идущих убивать своих соседей.
Какое же отношение все это имеет к родителям? Самое прямое! Никакое влияние, никакая культурная шлифовка нашей линзы, никакой приобретенный опыт не сравнится с ролью родителей в росте и развитии индивида. От них мы получаем генетическую наследственность, определяющую не только соматические тенденции развития, модели развития процесса старения, предрасположенность к определенным расстройствам и образу жизни, но само психологическое устройство наших органов восприятия и обработки информации: глаз, ушей, мозгов и т. д. Но при всей очевидности физиологического наследования, при всей вездесущности гуссерлианского «жизненного мира» самым мощным всегда оказывается психологическое влияние. Фундаментальные элементы восприятия мира и себя происходят от интернализации всех этих первоначальных присутствий или отсутствий в нашей жизни.
Будучи хрупкими и уязвимыми, мы находимся во власти внешних условий – экономических, социальных, культурных, – которые определяют нашу роль, наши поступки, взгляды и ценности. Lebenswelt средневекового крестьянина-буддиста, жившего в Тайланде тысячу лет назад, и молодого бизнесмена из Монреаля в XXI веке будут значительно различаться, потому что определяются они непохожими линзами для лицезрения и оценки мира. Но более того, мы интернализируем особые послания, наши трактовки этих посланий, а имплицитные и эксплицитные модели поведения, которые мы наблюдаем, ложатся в основу процесса развития взаимоотношений с миром и самим собой. Безопасен ли мир? Идет ли он нам на встречу? Можно ли ему доверять? Окажется ли он агрессивным или опустошающим? И как нам с ним управляться? Каждый ребенок неизбежно интернализирует представление (Weltanschauung) о самости и мире, набор рефлексивных адаптивных стратегем, цель которых – борьба с тревогой и удовлетворение нужд, насколько это возможно в этой лимитированной вселенной.
Если кто-либо, например, ощущает мир как постоянно прорывающийся за свои границы поток, то это значит, что этот человек интернализировал идею о всемогуществе мира и ничтожестве человека перед его лицом. И это ядерное восприятие обобщенной беспомощности приводит к формированию систематических адаптивных моделей избегания, компульсивного стремления получить контроль над окружающим миром или рефлексивного принятия и смирения, или некоей комбинации из всех трех вариантов. Каждая стратегия – это воплощение интерпретации себя и мира, защитная адаптационная схема, которая настолько глубоко и быстро проникает в жизнь, что вскоре становится нашим основным способом бытия в мире. Другими словами, интернализированные интерпретации управляют нашей повседневной жизнью, порождают модели для прививания культуры и определяют наш выбор.
Перед лицом ненадежного Другого, постоянно покидающего тебя Другого, человеку приходится интернализировать это несовпадение между своими желаниями и ограниченными возможностями Другого – так формируются предварительные, бессознательные гипотезы. К примеру, могут быть сомнения в собственной ценности, когда человек интернализирует ограничения Другого как некое утверждение собственной внутренне присущей потребности в заботе. В свою очередь, такая недооценка себя порождает модели избегания и самовредительства или же сверхкомпенсирующей идеи величия. Также возможны переживания нарциссической обиды, которые через манипуляции и контроль со стороны Другого могут привести к более адекватному удовлетворению своих потребностей. Либо человек может быть одержим неумеренной потребностью в успокоении, утешении, близости, которая порождает аддикцию и зависимость. В момент установления сиюминутной «связи» с Другим экзистенциальный ужас разрыва, одиночества и покинутости ослабевает, но лишь на мгновение. И это приводит к формированию зависимости и потребности воспроизводить эту связь снова и снова.
Каждая модель поведения воспроизводится так часто, что со временем становится жестко зафиксированным модусом бытия в этом переменчивом мире, так зависящем от множества факторов. Каждая модель, в свою очередь, – это производный и произвольный взгляд на себя и мир, предопределенный интернализацией отношений с родителями. Это взаимодействие обычно становится всеобъемлющим, непреодолимым, единственным и не терпящим альтернатив. И кто же будет утверждать, что первичная навязчивость взрослой жизни возникает не за счет этой интернализаций родительских фигур, которые предопределяют, преломляют, воспроизводят и, при необходимости, искажают траекторию нашего путешествия сквозь эту непознаваемую вселенную?
Конечно же, мы видим лишь то, что позволяют видеть наши линзы, отшлифованные миллионами повторений ранних лет жизни. Стихи Наоми Реплански, помещенные в начале этой главы, являются признанием в том, что никакие пройденные мили эмоциональной жизни не способны помочь бдительному сознанию освободиться от моделей, интернализированных в процессе выстраивания отношений с родителями.
Вот еще один пример подобной фундаментальной навязчивости: мать Селин умерла после долгой болезни. Селин снится сон: «Я нахожусь одна в доме своего детства, принимаю душ. Выхожу из душа и чувствую, что в доме кто-то есть. Мне страшно. Я открываю входную дверь, переступаю порог, и это тоже пугает меня». Такой сон скорее ставит вопросы, чем дает ответы. Почему сновидица оказалась в домике своего детства? Возможно потому, что в этом доме живет призрак ее матери? В доме никого не видно, но открывать дверь и переступать через порог все равно страшно.
Мы не можем дать определенных ответов на эти эллиптические вопросы, мы даже не знаем, почему мы вообще видим сны. Но в природе энергия никогда не растрачивается, и сны – тоже часть саморегуляции природных систем. Юнг считал, что сны перерабатывают вторжения повседневной жизни, помогают их усваивать, компенсируя ту односторонность, которую она от нас требует. Если рассматривать сновидения под этим углом, то сон Селин вызывает еще больше вопросов. Покидаем ли мы наш детский дом окончательно? Или пережитый там опыт остается с нами навсегда и продолжает влиять на принимаемые нами решения? Возможно, мать Селин, приняв некую более или менее осязаемую форму, находится там? Или именно ее отсутствие вызвало этот навязчивый призрак? Почему и в том, и в другом случае человек испытывает страх? И как не чувствовать тревогу, сталкиваясь с этими необъяснимыми тайнами? Возможно, именно из-за отсутствия матери эго-сновидения боится выйти за порог и вступить во внешний мир?
Некоторые чувствуют себя свободными, чувствуют, как за спиной вырастают крылья, только когда их родители уходят. Другие же после смерти родителей тревожатся, поскольку больше не чувствуют, что у них есть «дом». Роберт Фрост как-то сказал, что дом – это то, куда ты приходишь, и тебя не могут не впустить. А что если такого места больше нет? Что дает нам это огромный внешний мир – чувство свободы или чувство пустоты? Что есть это пустое пространство – «открытость Бытия» (термин Мартина Хайдеггера, 1889–1976) или пустыня, поглощающая бездна? Сможет ли сновидица ступить в лежащий перед ней необъятный мир? Необходим ли был уход матери для этого важного шага, было ли это прелюдией к новой, более полной жизни?
Очевидно, что Селин переживает лиминальный период жизни (limen в переводе с латыни означает «порог»). Но где она окажется, переступив этот порог, в пустынном царстве страха или пространстве свободы и новых возможностей? Или все это – одно и то же место. Неизвестно, как сложится ее дальнейшая жизнь. Мать – важнейшая фигура для каждой девочки. В конце концов мать – это всегда источник, модель, пример для подражания, но как все это отыгрывается в каждом конкретном случае? Недавно одна женщина сказала: «Мне пришлось строить свою модель материнства на руинах дома, который моя мать разрушила своим нарциссизмом».