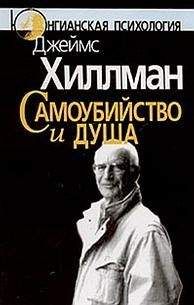Александр Моховиков - Суицидология: Прошлое и настоящее: Проблема самоубийства в трудах философов, социологов, психотерапевтов и в художественных текстах
Если сам Цезарь решился высказать такое суждение, то и мне незазорно признаться, что я думаю так же.
«Мгновенная смерть, — говорит Плиний, — есть высшее счастье человеческой жизни». Людям страшно сводить знакомство со смертью. Кто боится иметь дело с нею, кто не в силах смотреть ей прямо к глаза, тот не вправе сказать о себе, что он приготовился к смерти; что же до тех, которые, как это порою случается при совершении казней, сами стремятся навстречу своему концу, торопят и подталкивают палача, то они делают это не от решимости; они хотят сократить для себя срок пребывания с глазу на глаз со смертью. Им не страшно умереть, им страшно умирать,
Emori nolo, sed me esse mortuum nihil aestimo27.
Это та степень твердости, которая, судя по моему опыту, может быть достигнута также и мною, как она достигается теми, кто бросается в гущу опасностей, словно в море, зажмурив глаза.
Во всей жизни Сократа нет, по-моему, более славной страницы, чем те тридцать дней, в течение которых ему пришлось жить с мыслью о приговоре, осуждавшем его на смерть, все это время сживаться с нею в полной уверенности, что приговор этот совершенно неотвратим, не выказывая при этом ни страха, ни душевного беспокойства и всем своим поведением и речами обнаруживая скорее, что он воспринимает его как нечто незначительное и безразличное, а не как существенное и единственно важное, занимающее собой все его мысли.
Помпоний Аттик, тот самый, с которым переписывался Цицерон, тяжело заболев, призвал к себе своего тестя Агриппу и еще двух-трех друзей и сказал им: так как он понял, что лечение ему не поможет и что все, что он делает, дабы продлить себе жизнь, продлевает вместе с тем и усиливает его страдания, он решил положить одновременно конец и тому и другому; он просил их одобрить его решение и уж во всяком случае избавить себя от труда разубеждать его. Итак, он избрал для себя голодную смерть, но случилось так, что, воздерживаясь от пищи, он исцелился: средство, которое он применил, чтобы разделаться с жизнью, возвратило ему здоровье. Когда же врачи и друзья, обрадованные столь счастливым событием, явились к нему с поздравлениями, их надежды оказались жестоко обманутыми; ибо, несмотря на все уговоры, им так и не удалось заставить его изменить принятое решение: он заявил что поскольку так или иначе ему придется переступить этот порог, то раз он зашел уже так далеко, он хочет освободить себя от труда начинать все сначала. И хотя человек, о котором идет речь, познакомился со смертью заранее, так сказать на досуге, он не только не потерял охоты встретиться с нею, но, напротив, всей душой продолжал жаждать ее, ибо, достигнув того, ради чего он вступал в это единоборство, он побуждал себя, подстегиваемый своим мужеством, довести начатое им до конца. Это нечто гораздо большее, чем бесстрашие перед лицом смерти, это неудержимое желание изведать ее и насладиться ею досыта.
История философа Клеанфа очень похожа на только что рассказанную. У него распухли и стали гноиться десны; врачи посоветовали ему воздержаться от пищи; он проголодал двое суток и настолько поправился, что они объявили ему о полном его исцелении и разрешили вернуться к обычному образу жизни. Он же, изведав уже некую сладость, порождаемую угасанием сил, принял решение не возвращаться вспять и переступил порог, к которому успел уже так близко придвинуться.
Туллий Марцеллин, молодой римлянин, стремясь избавиться от болезни, терзавшей его сверх того, что он соглашался вытерпеть, захотел предвосхитить предназначенный ему судьбой срок, хотя врачи и обещали если не скорое, то во всяком случае верное его исцеление. Он пригласил друзей, чтобы посовещаться с ними. Одни, как рассказывает Сенека, давали ему советы, которые из малодушия они подали бы и себе самим; другие из лести советовали ему сделать то-то и то-то, что, по их мнению, было бы для него всего приятнее. Но один стоик сказал ему следующее: «Не утруждай себя, Марцеллин, как если бы ты раздумывал над чем-либо стоящим. Жить — не такое уж великое дело; живут твои слуги, живут и дикие звери; великое дело — это умереть достойно, мудро и стойко. Подумай, сколько раз проделывал ты одно и то же — ел, пил, спал, а потом снова ел; мы без конца вращаемся в том же кругу. Не только неприятности и несчастья, вынести которые не под силу, но и пресыщение жизнью порождает в нас желание умереть». Марцеллину не столько нужен был тот, кто снабдил бы его советом, сколько тот, кто помог бы ему в осуществлении его замысла, ибо слуги боялись быть замешанными в подобное дело. Этот философ, однако, дал им понять, что подозрения падают на домашних только тогда, когда существуют сомнения, была ли смерть господина вполне добровольной, а когда на этот счет сомнений не возникает, то препятствовать ему в его намерении столь же дурно, как и злодейски убить его, ибо
Invitum qui servat idem facit occidenti28.
Он сказал, сверх того, Марцеллину, что было бы уместным распределить по завершении жизни кое-что между теми, кто окажет ему в этом услуги, напомнив, что после обеда гостям предлагают десерт. Марцеллин был человеком великодушным и щедрым; он оделил своих слуг деньгами и постарался утешить их. Впрочем, в данном случае не понадобилось ни стали, ни крови. Он решил уйти из жизни, а не бежать от нее; не устремляться в объятия смерти, но предварительно познакомиться с нею. И чтобы дать себе время основательно рассмотреть ее, он стал отказываться от пищи и на третий день, велев обмыть себя теплой водой, стал медленно угасать, не без известного наслаждения, как он говорил окружающим. И действительно, пережившие такие замирания сердца, возникающие от слабости, говорят, что они не только не ощущали никакого страдания, но испытывали скорее некоторое удовольствие, как если бы их охватил сон и глубокий покой.
Вот примеры заранее обдуманной и хорошо изученной смерти. Но желая, чтобы только Катон и никто другой явил миру образец несравненной доблести, его благодетельная судьба расслабила, как кажется, руку, которой он нанес себе рану. Она сделала это затем, чтобы дать ему время сразиться со смертью и вцепиться ей в горло и чтобы пред лицом грозной опасности он мог укрепить в своем сердце решимость, а не ослабить ее. И если бы на мою долю выпало изобразить его в это самое возвышенное мгновение всей его жизни, я показал бы его окровавленным, вырывающим свои внутренности, а не с мечом в руке, каким запечатлели его ваятели того времени: ведь для этого второго самоубийства потребовалось неизмеримо больше бесстрашия, чем для первого.
Давид Юм. О самоубийстве
Из благотворных последствий, вызываемых философией, далеко не последнее заключается в том, что она доставляет наилучшее противоядие против суеверия и ложной религии. Все другие средства против этой гибельной язвы тщетны или в лучшем случае ненадежны. Простой здравый смысл и житейская мудрость, которых достаточно для большинства жизненных целей, здесь оказываются недействительными. Как история, так и повседневный опыт доставляют нам примеры людей, наделенных наилучшими способностями к практической деятельности, но всю свою жизнь пресмыкавшихся под гнетом самого грубого суеверия. Даже веселость и кротость нрава, проливающие бальзам на все прочие раны, бессильны против столь губительного яда; мы можем в особенности наблюдать это у прекрасного пола: хотя последний и обладает обычно указанными богатыми дарами природы, однако многие из его радостей отравляются этим несносным пришельцем. Но когда здравая философия получает господство над духом, суеверию действительно приходит конец, и можно смело утверждать, что ее торжество над этим врагом более полное, нежели над большинством пороков и несовершенств, которым подвержена человеческая природа. Любовь или гнев, честолюбие или скупость имеют свои корни в нраве и в аффектах, исправить которые едва ли силах даже самый здравый разум; но суеверие, будучи основано на ложном мнении, должно тотчас же исчезнуть, едва лишь истинная философия внушит нам более правильные представления высших силах. Здесь идет более равная борьба между болезнью и лекарством, помешать последнему доказать свою действенность не в силах ничто, кроме его собственной ложности и софистичности.
Здесь было бы излишне возвеличивать заслуги философии, раскрывая губительные тенденции того порока, от которого она избавляет человеческий дух. Суеверный человек, говорит Туллий29, жалок в любом положении, в любом случае жизни; даже сон, который рассеивает все другие заботы злополучных смертных, дает ему повод к новым страхам, ибо, вдумываясь в свои грезы, он находит в этих ночных видениях предвестие грядущих бедствий. Я могу прибавить, что, хотя только смерть в силах положить навсегда предел его злополучию, он не решается прибегнуть к данному пристанищу, но продолжает свое жалкое существование из-за пустого страха перед тем, как бы не оскорбить своего творца, воспользовавшись властью, которую это благодетельное существо даровало ему. Дары Бога и природы похищаются у нас этим жестоким врагом, и, несмотря на то, что один шаг вывел бы нас из обители мучений и скорби, угрозы суеверия все же приковывают нас к ненавистной жизни, которую оно же само главным образом и делает жалкой.