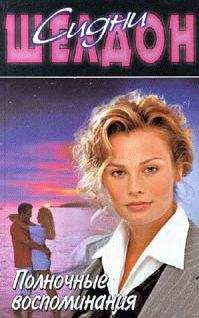Карл Витакер - Полночные размышления семейного терапевта
За последние двадцать лет мы с Мюриэл все больше работали вместе. Наш брак стал метафорой для их брака, а их союз и супружеская война, разумеется, отражают события нашего брака.
Команда, состоящая из мужа и жены, своим единством четче определяет административную сторону взаимоотношений. Например, пациенту (семье) совершенно ясно, что разные организационные решения (о звонках в кризисных ситуациях или об изменениях назначен-ного времени) принимаются всегда с обоими ко-терапевтами. Это не только усиливает команду, но и предохраняет от типичного ожидания материнской любви от каждого терапевта. Кроме того, команда супругов вносит новое измерение честности — основанной не столько на объективности, сколько на взаимной открытости такой терапевтической пары друг для друга. Их теплота — будь то теплота любви и сотрудничества или жар гнева и споров между ними — передается семье. Иными словами, появляется атмосфера любви.
Команда мужа и жены символически оживляет детские переживания, воспоминания о маме и папе. И, наконец, важно понять, что такая команда предоставляет паре или семье возможность лучше познакомиться с синдромом пустого гнезда и помогает пережить вечно новый опыт расставания во всем богатстве его звучания — с отголосками смерти, запустения, окончания важного дела, бегства из дома.
Неведомое никому, кроме тела
В связи с недавней операцией на открытом сердце, я много думаю о вещах, сокрытых от ума и ведомых одному только телу. С этим связан мой давнишний интерес к сновидениям: откуда они берутся? Зачем приходят? Тело знает весь процесс целиком, и надо ясно понимать, что «тело» — не просто синоним «бессознательного». Тело помнит травму рождения. Оно записывает — в мышцах, в своем строении и в физиологии — то, что забыто, то, что мы не узнаем никогда.
Тело помнит также психологическую смерть, происходящую под общим наркозом. Наркоз есть род самоубийства или убийства, когда только тело воспринимает операцию, и процесс жизни совершенно необычен. Четырехчасовая операция на моем сердце открыла мне по-новому смысл такого разрыва. Два часа мое сердце не билось, а легкие сдулись, как пустые мешки; но мой мозг ничего не помнит, мне это только могут рассказать. А мое тело знает. Оно было там, оно в этом участвовало.
Когда мой разум понемногу снова вернулся в тело, я стал все сильнее ощущать панику, страх: как бы этот бульдозер не проехался по мне опять. Я злился на неизбежное возвращение к своей экосистеме и чувствовал отчужденность от жизни, с которой связан моей культурой. Через семь дней после шестичасового параноидального бреда я приехал домой, и наступили три дня эйфории: во-первых, психологической эйфории повторного воплощения, во-вторых, физической, как будто тело только сейчас обнаружило, что продолжает жить. За этим последовали сутки творческого полета мыслей, похожего на манию, экстаз жизни и новое понимание того, в какое рабство может превратиться жизнь. Меня удивило, насколько я переменился. Противоречия жизни перестали меня порабощать. Моя система ценностей — та часть, которую я считал почти неизменной, — может, оказывается, меняться, хотя я еще не знаю, какой она будет. Я стал догадываться, откуда происходит жизненная энергия, как действует стресс и как он растет и разрушает, и думал: «А что еще?» Появилось иное чувство времени, новое ощущение цельности моего «Я», какой-то намек на понимание моих суицидальных импульсов — как если бы четырехчасовая смерть ума позволила телу решать: жить или умереть.
Через несколько недель я почувствовал, как мои психика и тело снова начинают работать в одной команде. Какое-то время, казалось, мое тело настолько распоряжалось всем, что психика почти не работала, как если бы оно мстило за этот отрыв от психологического осознания и восприятия жизни. Позже тело начало делиться понемногу своим знанием с психологическим «Я». Порой я даже чувствовал что-то вроде ярости, накопившейся в моем теле, какой-то отзвук желания отомстить за причиненное ему насилие.
Старость — прекрасное время!
Кто-то сказал, что юность — такое прекрасное время жизни, что стыдно тратить его в юности. Я бы добавил сюда мое недавнее открытие, что старость — такое прекрасное время, что стыдно ждать его так долго! Последние пять лет моей карьеры преподавателя (она кончилась, когда мне исполнилось семьдесят лет, согласно университетским правилам) и последующие пять лет на пенсии оказались более живыми, более творческими и счастливыми, чем предыдущие сорок!
Интересно подумать, отчего это. Одна причина тому — свобода от всевозможных страхов: страха навредить пациентам, страха общественного неодобрения, страха профессиональной неадекватности и паники вообще. Чувство защищенности в пожилом возрасте происходит оттого, что все — до лампочки. Другие люди имеют право на убеждения, но их убеждения не могут заставить меня чувствовать себя неловко или меняться. Мне нравится моя жизнь, и я могу сидеть и наслаждаться ее процессом.
И процесс последних десяти лет — пяти лет преподавания и пяти на пенсии — неповторим. Это время новых открытий. Такие открытия часто начинаются с одного слова, с которым я вдруг просыпаюсь ночью, а потом проходят месяцы, пока не появится первый набросок, и еще больше времени проходит, пока его черты не становятся ясными, и тогда я вскакиваю с постели в четыре утра и записываю. Переход от первого этапа к последнему очень медленный, как будто способность соединить все вместе в один яркий образ сидит где-то в одной из комнат моего мозга, дожидаясь возможности выйти наружу. Интересно, что когда такой концептуальный набросок нового понимания моих действий в терапии и моего видения семьи записан или продиктован (хотя бы в общих чертах), почти невозможно к нему ничего добавить, как если бы он стал чем-то священным. Это мешает мне редактировать его, дополнять или изменять.
Уход на пенсию пробуждал страх: я никому не буду нужен, останется только сидеть в кресле и поджидать, когда смерть подойдет ко мне сзади и захлопает в ладоши, и я услышу этот звук. К моему удивлению, меня стали чаще приглашать вести семинары, что раньше было побочным занятием и второстепенным способом зарабатывать деньги. Я задумался над двумя секретами. Почему те же люди меня зовут снова — ведь я говорю то же самое? И почему повторение одного и того же продолжает волновать меня — когда я общаюсь с живой семьей, создаю псевдосемью из аудитории, говорю о процессе психотерапии, о том, как терапевт зреет, вместо того, чтобы увядать, и тому подобное?
Опять в четыре утра — согласно моей своеобразной эпистемоло-гии — меня осенило, что люди зовут меня для того, чтобы посмотреть на мое безумие, ибо это дает им свободу быть более непосредственными, более интуитивными, быть сумасшедшими по-своему.
Ответ на вопрос, почему это продолжает меня волновать, пришел не так быстро, но был очень четким: я сам стал пациентом для аудитории. Мое доверие к людям настолько выросло, что группе, которая заплатила деньги за то, чтобы я поделился своими мыслями о семейной терапии, я способен показать не только свое профессиональное понимание, но и мое «Я», мое творчество, мои свободные ассоциации, кусочки историй из жизни и внутренние частички собственной личности. Это помогает участникам таких групп критически взглянуть на свои культурные предрассудки, скрытые от сознания или забытые и лишь смутно ощущаемые.
Наконец, все яснее для меня становился факт, что волнение перед представлением на семинаре все еще очень живо во мне и рождает творческие порывы к новому способу мыслить, говорить по-другому на избитые темы и даже по-иному воспринимать ключевые понятия.
Юность — это кошмар сомнений; средний возраст — утомительный, тяжелый марафон; пожилой возраст — наслаждение хорошим танцем (быть может, коленки хуже сгибаются, но темп и красота становятся естественными, невымученными). Старость — это радость. Этот возраст знает больше, чем говорит. Он не так уж и жаждет говорить. Жизнь просто для того, чтобы жить. Мы с женой вполне знаем друг друга. Жизнь с ней похожа на удовольствие ходить по своему дому при погашенном свете: с каждым шагом ощущаешь безопасность родного. Шестеро наших детей — наши закадычные друзья, одиннадцать внуков, сад, где можно бродить и нюхать ромашки.
Когда я вижу одаренных и целеустремленных молодых терапевтов, пытающихся подняться на новый уровень, я думаю, что же поможет им избежать «перегорания». Меня спрашивают: «Что делать? Я уже выдохся?!» Как мне удавалось это? Благодаря удачному скачку из гинекологии в психиатрию по неясным мотивам? Из-за годичного обучения игровой терапии и трехлетней работы с правонарушителями? Благодаря возможности преподавать психиатрию студентам, когда я сам про нее почти ничего не знал? Или оттого, что я не сталкивался с тяжелой психиатрией? Все, кто должны были преподавать психиатрию в 1941 году, оказались в Европе. А если ты не посещаешь собрания Анонимных Алкоголиков, ты не алкоголик, а просто обычный пьяница. Следующая насмешка судьбы забросила нас в Окридж, в секретное место, где мы занимались спасением мира, место, способствовавшее поддержанию высокого уровня адреналина, — «перегорание» было невозможным.