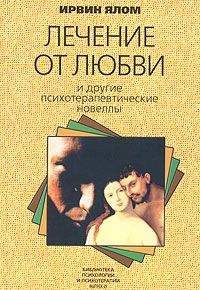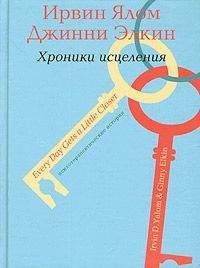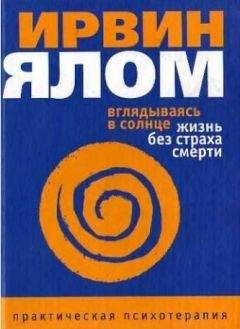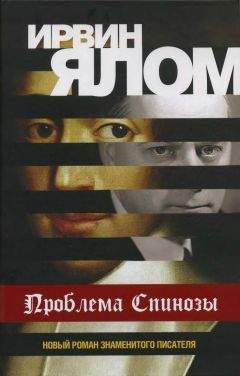Ирвин Ялом - Палач любви и другие психотерапевтические истории
Надвигалось неизбежное решение. Ее дочери, ее друзья, ее ветеринар – все убеждали Мари усыпить Элмера. И, само собой, я сам незаметно подталкивал ее к этому решению. Наконец Мари согласилась. Она повернула большой палец вниз (pollice verso, древнеримский жест «смерть ему». – Прим. ред.) и однажды серым утром повезла Элмера на его последний прием к ветеринару.
Однако одновременно возникла проблема на другом фронте. Отец Мари, который жил в Мехико, стал так слаб, что она подумывала о том, чтобы пригласить его жить с ней. Мне это казалось неудачной идеей для Мари, которая так боялась и не любила своего отца, что многие годы почти не общалась с ним. Фактически именно стремление избежать его тирании было главным фактором, заставившим ее восемнадцать лет назад эмигрировать в Соединенные Штаты. Идея пригласить его жить с ней была вызвана скорее чувством вины, нежели заботой или любовью.
Указав на это Мари, я также усомнился в том, что имеет смысл отрывать восьмидесятилетнего человека, не говорящего по-английски, от его культуры. В конце концов она уступила и организовала для него постоянный уход в интернате в Мехико.
Взгляд Мари на психиатрию? Она часто шутила со своими друзьями: «Сходите к психиатру. Они прелестны. Во-первых, они посоветуют вам выгнать вашу квартирантку. Затем они заставят вас отдать вашего отца в приют для престарелых. И, наконец, они убедят вас убить вашу собаку!»
И она улыбнулась, когда Майк старался убедить ее и мягко спросил: «Вы же не будете кормить свою собаку отравленной пищей, не так ли?»
Так что, с моей точки зрения, две улыбки Мари не означали ее согласия с Майком, а были, наоборот, ироническими улыбками, которые говорили: «Если бы вы только знали…» Когда Майк попросил ее поговорить со своим челюстно-лицевым хирургом, я представил себе, что она, наверное, думает: «Поговорить с доктором Z.! Это верно! Ух, как же я с ним поговорю! Когда я буду здорова и мой судебный иск будет удовлетворен, я поговорю с его женой и со всеми, кого я знаю. Я о нем, подонке, такой шум подниму, что у него всю жизнь будет в ушах звенеть!»
И, конечно же, улыбка насчет отравленной собачьей пищи была столь же ироничной. Должно быть, она думала: «О, я бы не кормила его отравленной пищей – до тех пор, пока он не станет старым и несносным. А затем я бы просто избавилась от него – раз и все!»
Когда на следующей индивидуальной сессии мы обсуждали консультацию, я спросил ее о двух улыбках. Она очень хорошо помнила каждую.
– Когда доктор К. посоветовал мне подробно поговорить с доктором Z. о своей боли, мне внезапно стало очень стыдно. Я стала спрашивать себя, не рассказали ли вы ему все обо мне и докторе Z. Мне очень понравился доктор К. Он очень привлекательный, как раз такой мужчина, какого я хотела бы встретить в жизни.
– А как насчет улыбки, Мари?
– Ну, очевидно, я была в замешательстве. Неужели доктор К. думает, что я шлюха? Если бы я действительно задумалась об этом (чего я не делаю), я бы поняла, что это сводится к товарообмену – я уступаю доктору Z. и позволяю ему немножко меня полапать в обмен на его помощь в моем судебном процессе.
– Так улыбка говорила…?
– Моя улыбка говорила… А почему вас так интересует моя улыбка?
– Продолжайте.
– Полагаю, моя улыбка говорила: «Пожалуйста, доктор К., давайте сменим тему. Не спрашивайте меня больше о докторе Z. Надеюсь, вы не знаете о том, что происходит между нами».
Вторая улыбка? Вторая улыбка вовсе не была, как я думал, иронической реакцией на тему заботы о своей собаке, а имела совершенно иной смысл.
– Мне стало смешно, когда доктор К. стал говорить о собаке и яде. Я поняла, что вы не рассказали ему об Элмере – иначе он не выбрал бы для иллюстрации собаку.
– И?..
– Ну, об этом трудно говорить. Но, хотя я и не показываю этого – я плохо умею говорить «спасибо», – я на самом деле очень ценю то, что вы сделали для меня за последние несколько месяцев. Я бы не справилась со всем этим без вас. Я уже рассказывала вам свою психиатрическую шутку (моим друзьям она очень нравится): сначала – квартирантка, затем – отец и, наконец, они заставляют вас убить вашу собаку.
– И?..
– И, мне кажется, вы вышли за рамки своей роли доктора – я вас предупреждала, что об этом будет трудно говорить. Я думала, психиатры не должны давать прямых советов. Может быть, вы позволили своим личным чувствам в отношении собак и отцов взять верх!
– И улыбка говорила…?
– Боже, до чего вы настойчивы! Улыбка говорила: «Да-да, доктор К., я поняла. А теперь давайте быстрее перейдем к другому предмету. Не расспрашивайте меня о моей собаке. Я не хочу, чтобы доктор Ялом выглядел плохо».
Ее ответ вызвал у меня смешанные чувства. Неужели она была права? Неужели я позволил вмешаться своим личным чувствам? Чем больше я думал об этом, тем больше убеждался, что это не так. Я всегда испытывал теплые чувства к своему отцу и обрадовался бы возможности пригласить его жить в моем доме. А собаки? Это правда, что я не симпатизировал Элмеру, но я знал, что меня не интересуют собаки, и строго следил за собой. Любой человек, который узнал бы об этой ситуации, посоветовал бы ей избавиться от Элмера. Да, я был уверен, что действовал так в ее интересах. Поэтому мне было неловко принимать от Мари защиту моего профессионализма.
Это выглядело какой-то конспирацией – как будто я признавал, что мне есть что скрывать. Однако я также осознавал, что она выразила мне благодарность, и это было приятно.
Наш разговор об улыбках открыл такой богатый материал для терапии, что я отложил свои размышления о разном восприятии реальности и помог Мари исследовать свое презрение к себе за то, что она пошла на компромисс с доктором Z. Она также выразила свои чувства ко мне с большей откровенностью, чем раньше: свой страх зависимости, свою благодарность, свой гнев.
Гипноз помог ей переносить боль в течение трех месяцев, пока ее поврежденная челюсть не зажила, стоматологическое лечение не завершилось и лицевые боли не утихли. Ее депрессия улучшилась, а гнев уменьшился; но, несмотря на такой ход событий, я все же не смог изменить Мари так, как мне хотелось. Она осталась гордой, в чем-то критичной и сопротивлялась новым идеям. Мы продолжали встречаться, но у нас, казалось, становилось все меньше и меньше тем для обсуждения; и, наконец, несколько месяцев спустя мы согласились, что пора завершать работу. Мари приходила ко мне во время незначительных кризисов каждые несколько месяцев в течение следующих четырех лет; и с тех пор наши жизни больше не пересекались.
Процесс длился три года, и она получила до обидного маленькую сумму. К тому времени ее гнев по отношению к доктору Z. уже иссяк, и Мари забыла о своем решении опорочить его. В конце концов она вышла замуж за пожилого добродушного человека. Я не уверен, что она когда-нибудь снова была по-настоящему счастлива. Но она никогда больше не выкурила ни одной сигареты.
Эпилог
Консультация Мари – это свидетельство ограниченности знания. Хотя Мари, Майк и я провели этот час вместе, каждый из нас вынес из него совершенно различный и непредсказуемый опыт. Этот сеанс можно представить как триптих, каждая часть которого отражает перспективу, оттенки, проблемы своего автора. Возможно, если бы я сообщил Майку больше информации о Мари, его часть картины больше напоминала бы мою. Но что именно я мог бы ему рассказать, проведя с ней сотни часов? О своем раздражении? О нетерпении? О сожалении, что зашел с ней в тупик? О своем удовольствии от ее прогресса? О своем сексуальном влечении? Об интеллектуальном любопытстве? О своем желании изменить взгляды Мари, научить ее смотреть внутрь себя, мечтать, фантазировать, расширить ее горизонты?
Но даже если бы я провел с Майком многие часы, рассказывая обо всем этом, я все же не смог бы адекватно передать свой опыт общения с Мари. Мои впечатления о ней, мое нетерпение, мое удовольствие не совсем такие, как у любого другого человека. Я пытаюсь схватить нужное слово, метафору, аналогию, но они никогда по-настоящему не срабатывают; в лучшем случае они остаются слабым приближением к тем ярким образам, которые лишь однажды промелькнули в моем сознании.
Познание другого блокирует ряд искажающих призм. До того как был изобретен стетоскоп, врачи слушали звуки человеческой жизни, прижимая ухо к грудной клетке пациента. Представьте себе два сознания, перетекающие друг в друга и передающие мысленные образы непосредственно, как инфузории-туфельки обмениваются пронуклеусами: это и было бы совершенным союзом.
Возможно, через тысячи лет такой союз будет возможен – окончательное противоядие для одиночества, окончательное искоренение личной жизни. Что касается нашего времени, существуют непреодолимые препятствия для такого совокупления сознаний.
Во-первых, существует барьер между образом и языком. Сознание мыслит образами, но для общения с другими приходится трансформировать образы в мысли, а затем мысли в слова. Этот путь: от образа к мысли и языку, очень коварен. Происходят потери: богатая, сочная ткань образа, его необыкновенная пластичность и текучесть, его личные ностальгические эмоциональные оттенки – все утрачивается, когда образ втискивают в язык.