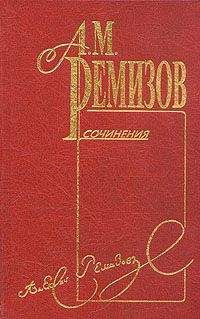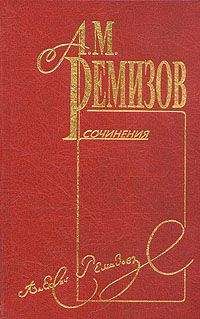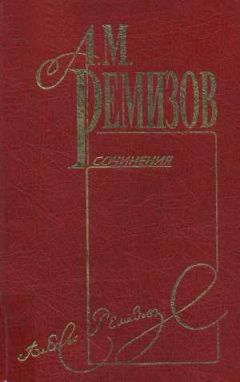Елена Обатнина - Алексей Ремизов: Личность и творческие практики писателя
Вынужденная объективация границы, отделявшей мир от «Я»[111], которая пришла к будущему писателю с появлением очков, не только не разрушила, но даже повысила ценность собственного взгляда на внешние явления, заставила переключить внимание с воспринимаемых вещей на сам акт восприятия. Логически осмысленные и направленные на самое себя переживания соединились у Ремизова с «расположением к миру»: «У меня было именно такое чувство — расположение к миру, <…> — вот чего пожелаю людям. И непонятно, откуда это приходит на человека, не могу объяснить себе, как возможно, все видя, и мало того, все чувствуя, держать в своем сердце расположение ко всему…»[112] В «Подстриженных глазах» подробный рассказ о мучительных фобиях всего «жизненного», которые были неизбывны до такой степени, что если даже самому пугливому существу на земле суждено перебояться, то «нас останется двое: мир — грозящий и я со своим страхом», сменялся утверждением: «а ведь я люблю и землю и цветы и деревья и море и грозу, я люблю музыку, люблю и джаз, люблю и цыганские песни, и мне больно перед болью и несчастьем человеческим и мне жалко зверей и я берегу вещи и я чувствую себя „человеком“ перед глубокой мыслью человеческой, перед поступком человека большого сердца, смелости и мужества»[113].
Проблема самоидентификации как усмотрения сущности (по Гуссерлю, «ego само есть сущее для самого себя в непрерывной очевидности и, следовательно, непрерывно конституирующее себя в себе самом как сущее»[114]) решалась для Ремизова посредством радикального отбрасывания предуготовленных социумом дефиниций, сведения «психологического Я» к «самоочевидностям», путем медленного и последовательного погружения в глубины «трансцендентального Я». В 1904 году, в один из узловых моментов своей жизни, он написал: «…и к „революционерам“ не подхожу, и к „полиции“ не подхожу, и к „Весам“ („декаденты“) не подхожу, и к „Правде“ („большевики“) не подхожу, еще остается Петербург, наперед скажу, и у Мережковских я не свой, да и они не по мне, вместе с Чуйковым и с их фальшивой „религией“»[115]. Потребность субъекта сначала «вынести за скобки» все наносное, идущее извне, все кем-то навязанное либо ошибочно воспринятое как «свое», а потом оставить внутри этих скобок только очевидную данность своего существования (вернее, несомненную данность существования человека во всем сомневающегося), — была вызвана не желанием замкнуться «в себе», а напротив, найти возможность понять внешний мир так же, как себя самого, и увидеть в другом, чужом и внешнем, — «свое» и «себя». Подобную рефлексивную практику, посредством которой «я в чистом виде» схватывает «себя как Я вместе с чистой жизнью собственного сознания, в которой и благодаря которой весь объективный мир есть для меня, и так, как он именно для меня»[116], Гуссерль называл феноменологической редукцией (έποχή).
Описанная творческая методика была особенно продуктивна в отношении литературных текстов, которые писатель использовал в качестве материала для своей работы. Суть приема заключалась в том, чтобы «очищать» предмет исследования для созерцания идеального первообраза. Таинства собственной практики Ремизов приоткрыл во время работы над «Огнем вещей»: «У Достоевского — мысленная перевязь действий: в „Скверном анекдоте“ есть такая перевязь в несколько страниц, а по времени — полминуты. А чтобы выделить эти „мысли“, как принято выделять стихи, не попробовать ли напечатать без знаков препинания (что было бы и ближе к действительности, ведь непрерывность в ней без передышки — мысли думаются, передумываются и задумываются)?»[117] Действующий в сфере чистого воображения художник при помощи игры свободной фантазии измышлял ряд признаков заданного предмета, варьировал и изменял («вертел» и «перебрасывал»[118]) его совершенно произвольно (на сторонний взгляд), добавлял к нему новые характеристики или лишал старых, в результате чего сам исходный предмет становился одной из возможных вариаций.
В повести «По карнизам» описан аналогичный процесс творческого осмысления «чужого» текста: «Потом на меня напало то, что бывает со мной, когда я много пишу. Мне пришла на память „программа“ из рассказа Шишкова, и я стал ее мысленно вертеть — как на бумаге, выписывая буквы только в воздухе, букву за буквой…»[119] Основная цель заключалась в том, чтобы уловить неизменность варьируемых признаков — то, что Гуссерль называл «свободной вариацией фантазии». Когда образ как бы перерастал самое себя, когда «сквозь конкретную индивидуальность образа» можно было увидеть «его целостную силу, остающуюся той же самой, хотя и скрывающуюся в тысячах форм», наступал момент репрезентации — отображения его идеальной сущности[120].
Утверждение ремизовского интерсубъективизма происходило через развитие способности принимать на себя образ другого. Писатель был уверен в том, что именно так и создавались бессмертные произведения: «В каждом человеке, сознание не одного, а многих, живет не один образ и не одно подобие. Творчество, источник которого боль и тоска, „слеза Господня“, есть воссоздание этих образов и подобий, неладных друг с другом, спорящих и враждующих. Воссоздание же в художественном произведении не описание кого-то, а непрямая форма исповеди: пишут только о себе с себя — „всякий не может судить, как по себе“ (Достоевский). <…> Отбор литературного материала совершается не наугад, что под руку попало. И что это значит, что на чем-то остановилось мое внимание? Да это встреча и память о прошлом. То же и с воспоминанием из прочитанного: ведь лезет в голову что-то одно, определенное, а все другое, казалось бы не менее интересное, стерлось. <…> Самое недостоверное исповедь человека. Достоверно только „непрямое“ высказывание, где не может быть ни умолчаний по стыдливости, ни рисовки „подымай выше“. И самое достоверное в таком высказывании то, что неосознанно, что напархивает из ничего, без основания и беспричинно, а это то самое, что определяется словом „сочиняет“»[121].
Изначальное тождество «своего» и «чужого» в творчестве писателя не сразу было понято и принято критикой. Показательно, что в самом начале творческого пути Ремизову пришлось даже отстаивать «профессиональное звание человека, реализующего свое ремесло»[122]. Эффект разорвавшейся бомбы произвела газетная заметка, анонимный автор которой обвинил писателя в плагиате: «Позвольте через посредство „Биржевых ведомостей“ рассказать читающей публике, как г. Ремизов экспроприирует (другого выражения не подберешь!) свою славу. Из предлагаемых документов вы убедитесь, что г. Ремизов не писатель, а списыватель»[123]. Собственные принципы обращения с фольклорными источниками Ремизову пришлось объяснять в открытом письме в редакцию «Русских ведомостей»: «…При художественном пересказе, когда по сличении всех имеющихся налицо вариантов какой-нибудь народной сказки материалом является облюбованный, строго ограниченный текст, — все сводится к самой широкой амплификации, т. е. к развитию в избранном тексте подробностей или к дополнению к этому тексту, чтобы в конце концов дать сказку в ее возможно идеальном виде. Что и как прибавить или развить и в какой мере дословно сохранить облюбованный текст, — в этом вся хитрость и мастерство художника»[124].
Ремизовская творческая практика отразила не только индивидуальные особенности его метода. Характерно, что в многочисленных откликах, вызванных скандалом на страницах прессы, литературное поведение Ремизова расценивалось как симптоматичная тенденция: «„модернисты“ сделали еще один крупный шаг в литературной технике…»[125]. Объясняя свой метод, Ремизов использовал термин «амплификация», который в литературном обиходе подразумевает риторическую фигуру, обозначающую многословие, велеречие — расширение и повторение одного и того же смысла разными словами и оборотами, необходимыми для усиления воздействия речи на читателя. В письме издателю альманахов «Шиповник» Копельману 17 июня 1909 года он снова вынужден был защищаться от обвинений: «Я имел полное право пользоваться материалом Записок Императорского] Геогр[афического] Общ[ества]. Для этого материалы и существуют. Материалы записываются, и чем точнее запись, тем ценнее материалы — записыватель от себя вносить и поправлять не имеет права ни букв, ни полслова. Обрабатывать предоставляется каждому. Материалы — в данном случае сказок — представляют из себя открытое сокровище всего народа. Если я сумел обработать — я прав, если не сумел — я виновен»[126]. Заметим, что если в начале XX века свободное отношение к генезису литературного образа еще квалифицировалось как нарушение литературной этики[127], то спустя десятилетие разрыв «родовых» связей образа и источника превратится в своего рода «двигатель» литературного прогресса.