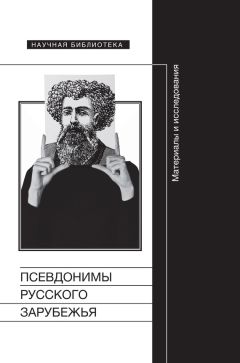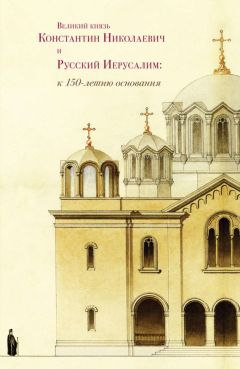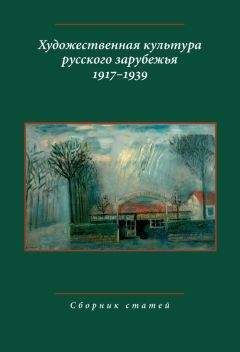Вольфганг Киссель - Беглые взгляды
Возникает вопрос, насколько правомерно говорить о произведении «Остров Сахалин» как о травелоге — все-таки сам Чехов незадолго до журнальной публикации 1893–1894 годов снабдил его подзаголовком «Из путевых записок»[116]. Чтобы ответить на этот вопрос, попытаемся абстрагироваться от социальных характеристик этого предприятия, которые естественно выходят на первый план изучения[117]. Что касается общественных аспектов, то книга по преимуществу трактует расхождение «теории» (закон, общественная мораль) и практики: равнодушие общества к тому месту, где оно санкционирует бесчеловечные и бессмысленные формы наказания и незаконной эксплуатации заключенных со стороны чиновников и учреждений, бедственное положение женщин, отсутствие у надзирающего персонала надлежащего обучения и какого-либо стремления решать насущные задачи по улучшению ситуации и введению социальных перемен, в целом же — обстановку, в которой люди (и не только заключенные) вынуждены деградировать. В книге о Сахалине эти проблемы настолько выходят в центр, что тематика собственно путешествия кажется оттесненной на задний план, и чтобы добраться до нее, нужно несколько сместить перспективу. В этой связи я хочу обратить внимание, во-первых, на конструирование пространства и, во-вторых, на «риторику» книги, которая противоречит всем жанровым предписаниям и «взгляд» которой лишен всякой беглости.
Начнем с первого. Можно спорить о том, насколько изображение Сахалина вписывается в традицию восприятия Сибири[118]. Во всяком случае, решающим обстоятельством, по-моему, является то, что здесь семантические, культурные границы служат не тенденции к захвату и проводятся не между «Россией» и «Сибирью», но между «Россией», с одной стороны, и «Сахалином» — с другой. Предлагается рассматривать Сахалин как форму «гетеротопии» в смысле, предложенном Мишелем Фуко в докладе об «espaces autres»[119]. Чеховский Сахалин предстает как остров (что подчеркнуто уже в названии книги) — и в пространственном, и в социальном отношении это замкнутое пространство, которое различными способами связывается с целым «нормального» пространства. Фуко рассматривает подобный случай как связь временной отмены (suspendre), нейтрализации или инверсии. Пространство «нормального» имеет у Чехова название: Россия (или же материк). А его Сахалин почти полностью подпадает под определения Фуко, которые он дает современным «гетеротопиям отклонения» («hétérotopies de déviation»), в которые заключаются индивидуумы, чье поведение отклоняется относительно нормы[120]. Чеховский остров имеет универсальный характер, он претерпевает функциональные изменения (например, связанные с лейтмотивом колонизации); он соединяет несоединимое (вспомним пассажи о жизни на воле незаключенных или о неадекватности официальной точки зрения условиям жизни на острове); он обладает собственным пониманием времени и представляет собой систему открытий и закрытий.
Не удивляет, что географически закрытая штрафная колония столь явно соотносится именно с концептом Фуко. Но поразительно, что Фуко в конце своей статьи о гетеротопии устанавливает связь с темой путешествия, и конкретно с образом корабля, который всегда относился к «величайшему арсеналу воображения» нашей цивилизации: «[…] le bateau, c’est un morceau flottant d’espace, un lieu sans lieu, qui vit par lui-même. […] Le navire, c’est l’hétérotopie par excellence»[121]. Чехов совершенно конкретно соединяет гетеротопию острова Сахалин с кораблем, который вначале доставил его с севера на юг («Уезжал я с большим удовольствием, так как север мне уже наскучил и хотелось новых впечатлений»[122]), и позднее — с мечтами о путешествии в действительно чужие края, которые не стали темой его книги.
Однако отношение между островом-тюрьмой и материком, между отклонением и нормой ни в коей мере не исчерпывается этим контрастным противопоставлением. С одной стороны, различие между ними дается с крайней остротой: в подчеркнутой чуждости Сахалина и практической непреодолимости его границ. Остров изолирован уже самим повествованием, где описывается только предстоящее прибытие и ни слова не говорится об отъезде. Уже по прибытии, находясь на корабле в устье Амура, он подчеркивает «другость» этого места:
Тут кончается Азия […]. Кажется, что тут конец света и что дальше уже некуда плыть. Душой овладевает чувство, какое, вероятно, испытывал Одиссей, когда плавал по незнакомому морю и смутно предчувствовал встречи с необыкновенными существами[123].
Рассказчик опасается, что его не пустят на остров (54), а его обитатели удивляются: «По доброй воле сюда не заедешь»[124]. С этнологической точки зрения Сахалин изучается как совершенно чуждое пространство; самые обычные вещи подвергаются сомнению; сам рассказчик кажется местным жителям гостем из другого мира. Эта грань становится особенно отчетливой в главе о «беглых» (гл. XXII). Она начинается с островного положения Сахалина, которое само по себе является препятствием для бегства, и его суровой природы. Здесь же обсуждается очень сильное, несмотря ни на что, стремление к бегству, о чем свидетельствует статистика, и — после краткого отступления, посвященного рассказу о беглых Владимира Короленко «Соколинец» (С. 350), — описывается страх обитателей материка перед беглыми. Согласно доступным автору сведениям, из 1501 убежавшего за последнее время пойманы 1010, сорок найдены мертвыми, остальные пропали бесследно (С. 356).
Симметрия очевидна: недоступность Сахалина в начале текста дополняется невозможностью покинуть остров в конце. Однако именно в этой главе проявляются последовательно выстроенные закрытость и характер «другого» этого пространства — и в то же самое время они столь же последовательно подрываются. На основании других парадигм Вальтер Кошмаль заключил, что сначала Сахалин изображался в качестве «гомогенного пространства, противоположного России», но оппозиция постепенно «ослабевала благодаря повествованию рассказчика», что привело к появлению «противоречивых концепций пространства»[125].
Обусловленные текстом читательские ожидания «другого» пространства все больше разрушаются разными деталями. Иногда это можно истолковать в том смысле, что так подчеркивается внутренняя гомогенность пространства Сахалина: заключенные свободно передвигаются по острову, существуя в «смущающей близости», которая, однако, оказывается безопасной (С. 62); заключенные оставляют открытыми ворота и двери (С. 87); земледельческие достижения колонистов не отличаются от успехов каторжников (С. 229) и четверть заключенных без всяких проблем живет вне тюрьмы (там же).
Но частые сравнения с «Россией» особенно выходят за рамки этой мотивации. Так, уже в наброске «Из Сибири» (1890) местный житель жалуется рассказчику, что в Сибири люди не видят смысла жизни. Он считает, что в России все по-другому: «Все-таки он должен понимать, для какой надобности он живет. В России небось понимают». «Нет, не понимают», — отвечает рассказчик[126]. В книге о Сахалине каторжные работают на дворе, «как наши деревенские работники» (229 и след.); деревенское невежество такое, «как и в России» (63); ужасные отхожие места соответствуют понятиям «русского человека» (90); угольные шахты все же не страшнее, чем в Донецке (139), а иные поселения выглядят как «настоящая русская деревня» (149). Речь идет даже о женщинах, которые после прежнего общения со своими мужьями только на каторге вздохнули свободно (252).
Поражают и мотивации, подмечаемые Чеховым у беглых каторжников. Хотя здесь играют роль временные перспективы — например, пожизненные наказания, — но едва ли конкретные условия жизни заключенных. Значительно больше Чехов говорит об общем стремлении на свободу и о «страстной любви к родине». Ирония относительно мечты о родине очевидна:
…а в России все прекрасно и упоительно; самая смелая мысль не может допустить, чтобы в России могли быть несчастные люди… (ПСС. 14–15. С. 343).
Любое предложение по поводу улучшения условий жизни заключенных на острове наталкивается на аргумент, что они не должны жить лучше, чем дома; но по такой логике каторга неизбежно становится адом (С. 134 и след.). По цензурным соображениям, слово «ад» редко появляется в тексте, зато прямо звучит в письмах: «[…] По воспоминаниям, Сахалин представляется мне целым адом»[127].
Противоположные жесты от-чуждения и де-дифференциации совместить непросто, однако из них следует, что гетеротопия, ад Сахалина[128] в той же мере является контрпространством, в какой он является синекдохой всей России. Последняя характеризуется Чеховым позднее в одном из писем, явно по ассоциации с тюрьмой, в качестве «азиатской» страны: в ней нет свободы прессы и совести, жизнь «тесна и скверна» и мало надежды дождаться лучших времен[129]. Через день после возвращения в Москву в декабре 1890 года, он пишет Суворину: