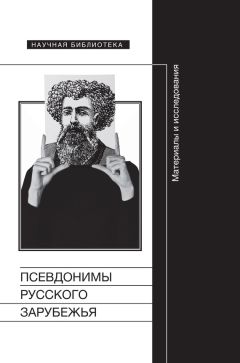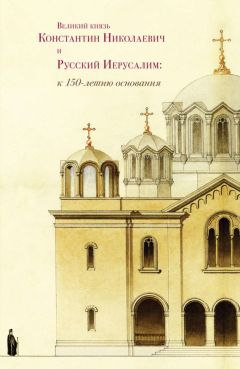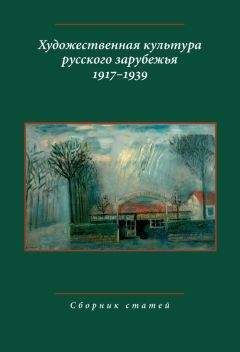Вольфганг Киссель - Беглые взгляды
Die Sehnsucht nach dem Menschen hat gleichzeitig den Leser wie den Schreiber gepackt. Ereignisse, Zustände, Ideen, sogar die «Atmosphäre», alles das ist aufs sorgfältigste beschrieben worden. Wer weiß heute nicht, was Hunger ist, was ein Panzerzug und was Klassenbewusstsein ist? Aber der Mensch? Wo ist der Held, der Autor, der Regisseur und unfreiwillige Schauspieler dieser ausgedehnten Tragödie?[881]
На фоне меняющихся принципов поэтики книга Эренбурга о Париже предстает как попытка эмансипационной критики власти вещей над людьми. Овеществление людей в Париже демонстрируется в качестве состояния, которое можно подвергать анализу в медиуме искусства. Однако предпосылкой такой критики стала «вненаходимость» Эренбурга. Как советский писатель, он непосредственно ощущает явное господство вещей во Франции. Эта дистанцирующаяся позиция выразилась сразу в двух публикациях тридцатых годов. В 1931 году он вместе с Овадием Савичем опубликовал антологию с программным названием «Мы и они», включавшую русские отзывы о французской культуре[882].
В 1934 году появилось полемическое произведение «Duhamel, Gide, Malraux, Mauriac, Morand, Romains, Unamuno vus par un ecrivain d’U.R.S.S». В этой серии статей, которая уже в 1933 году публиковалась в «Литературной газете»[883], Эренбург доказывал, что французская литература страдает слабостью, которая прямо противоположна недостаточности молодой советской литературы. В то время как русские писатели подавлены материалом, во Франции попросту отсутствует предмет, о котором стоило бы писать: «Les écrivains savent parler. En conséquence ils parlent. S’ils n’ont rien à raconter, ce n’est pas leur faute»[884]. Особенно резким был вердикт, вынесенный Эренбургом сюрреалистам: они хотя и «цитируют Гегеля, Маркса и Ленина», однако в действительности заняты только теорией онанизма и философией эксгибиционизма[885]. В ответ на такое оскорбление Андре Бретон дал Эренбургу пощечину на бульваре Монпарнас[886]. Однако в своем памфлете Эренбург преследовал ясную цель: он старался снять со своей позиции клеймо политического «попутчика» и сблизиться с официальным курсом литературы.
Как раз в начале тридцатых годов, когда литературно-политические распри в Советском Союзе все определеннее сдвигались в направлении марксистской эстетики, эмансипационное выступление Эренбурга едва ли было уместно. И совсем не удивительно, что его парижский альбом в 1933 году уже получил отрицательный отзыв в журнале «Звезда»: в своем произведении Эренбург слишком мало уделил внимания «пролетарскому Парижу»[887]. Подобная критика была созвучна официальной оценке Эренбурга в Малой Советской энциклопедии в 1931 году, где констатировалось, что он посмеивается над западным капитализмом и буржуазией, однако не верит в коммунизм или же в карающую силу пролетариата[888].
В 1934 году в журнале «Советское фото» Эренбург возразил, что он выстраивал текст, следуя фотографиям, и что «мобилизация» читателя невозможна, если в центре изображения находится сама действительность[889].
На Первом съезде советских писателей Эренбург пытался с помощью тонких аргументов защитить свою художественную доктрину: в выступлении он указал на свою критическую по отношению к Франции книгу. По его словам, в ней он изобразил свои наблюдения французской культурной жизни с точки зрения советской перспективы. Тем самым Эренбург попытался спасти ценности и силу своей субъективности в эру, которая превратила «изображение действительности в ее революционном развитии» в наглядную эстетическую программу. Но так или иначе, и этот художественный прием не мог скрыть, что в эстетической системе социалистического реализма не было больше места для «субъективной законченности» с позиции вненаходимости.
Красноречие Эренбурга и его в некотором смысле изначальная вовлеченность в дело социалистического реализма привели к тому, что Сталин хотел назначить его президентом Международной организации революционных писателей. Уже в ноябре 1934 года должна была состояться личная беседа Сталина с Эренбургом[890]. Но этого не случилось — возможно, вследствие того, что дело Кирова потребовало от Сталина полной сосредоточенности[891].
По иронии судьбы, отношение Эренбурга к Советскому Союзу определялось его позицией «вненаходимости», которая, однако, не привела его к адекватному пониманию истинной природы сталинизма. Эмма Герштейн с горечью описывает в своих мемуарах приезд Эренбурга в Москву в 1932 году:
Эренбург преклонялся перед прогрессивной политикой Советского Союза, восхищался строительством социализма, а мы, советские люди, не любили Эренбурга за то, что он хвалит издали то, что мы должны выносить на своей шкуре[892].
Ульрих Шмид (Бохум)Путешествия минеролога и геохимика В. И. Вернадского
Русская литература путешествий имеет свою историю. До конца XVII столетия в ней доминировал жанр описаний паломнического хождения по странам христианского Востока и до Иерусалима. В XVII веке множились официальные отчеты (статейные списки) русских дипломатов о путешествиях по странам Западной Европы. При Петре I начались путешествия в Европу в образовательных целях; к концу XVIII века описания путешествий, все более беллетризованные, превращаются в предмет для чтения чувствительной публики[893].
В середине XIX века появляется новая форма путешествия: с началом реформ 1860-х годов к стилю жизни высших слоев русского общества стало принадлежать развлекательное путешествие в Европу. Состоятельный русский путешественник наслаждается приятностью европейской жизни, проигрывает деньги в казино и разглядывает культурные достопримечательности прежде всего как любопытную декорацию. Рост туризма становится мишенью литературной сатиры. Характерное изображение получает русский туризм в «Зимних заметках о летних впечатлениях» (1863) Достоевского: рассказчик начинает с иронического captatio benevolentiae — он не может предложить своим гораздо более информированным читателям ничего нового. Далее в своем путевом отчете он ограничивается несколькими деталями из путеводителя, упоминает, например, знаменитые «липы в Берлине» и «Кельнский собор», о котором пишет: «Мне показалось, что это только кружево, кружево и одно только кружево, галантерейная вещица, вроде пресс-папье на письменный стол, сажен в семьдесят высотою»[894]. В целом автор дает гротесковый образ русского туриста:
Все они ходят с гидами и жадно бросаются в каждом городе смотреть редкости […] глазеют на говядину Рубенса и верят, что это три грации, потому что так велено верить по гиду; бросаются на Сикстинскую мадонну и стоят перед нею с тупым ожиданием: вот-вот случится что-то […] И отходят удивленные, что ничего не случилось[895].
Достоевский описывает путешественника, который воспринимает чужое, новое и неожиданное не как расширяющееся самопознание, но в качестве самоутверждения на основании текстов и образов из путеводителя, возможно, прочитанного перед путешествием. В таком восприятии оригинал подменяется копией: Кельнский собор предстает как пресс-папье, Рубенс и Рафаэль рассматриваются с перспективы комментария в путеводителе. Такое восприятие только лишний раз подтверждает литературно упакованное и «инвентаризированное» знание о мире. Новые медийные средства (фотография) и возможности коммуникации (железная дорога) требуют общедоступной натуралистичности в универсальном взгляде на мир.
На рубеже веков в сознании путешественника напластовываются образы и впечатления технически, бюрократически и экономически оформленных цивилизации и культуры, распространяющихся по миру из Западной Европы, к которым все более приобщается и Россия. С другой стороны, в это время русское искусство и литература успешно позиционируют себя далеко за ее пределами. Для русских литераторов раннего модерна познание чужого в путешествии служит прежде всего в качестве материала при создании претенциозных автобиографических и/или поэтических текстов. Цели классических путешествий в Европу литературно проявляются в сжатом символистском стиле современного урбанизма (апокалипсическая городская поэма В. Брюсова «Конь блед», 1907)[896], в орнаментальной эссеистике Андрея Белого («Париж», 1932)[897] или авангардистской фрагментарной прозе (Берлин В. Шкловского в «ZOO, или Письма не о любви», 1923). Речь идет не о полученных впечатлениях, но об оригинальной стилистике, растущей из внутренней саморефлексии. При этом предметность мотивов является лишь исходной точкой и почти несущественна.
На рубеже веков в Европе усиливается внимание не только к русской литературе. Быстро растет и международное значение русского естествознания. С XVIII века русские ученые, в первую очередь — этнографы, геологи и географы, публиковали отчеты о своих путешествиях; на первых порах это специальные данные о восточных областях империи. В течение XIX века русская наука усиленно интегрировалась в европейскую. С развитием массовой литературы рос и читательский интерес к беллетризованным описаниям путешествий, в том числе и к путешествиям ученых[898]. Научные экспедиции поставляли материал приключенческих историй для развлечения публики. Такое чтение дополняло или заменяло туристические путешествия в экзотические страны.