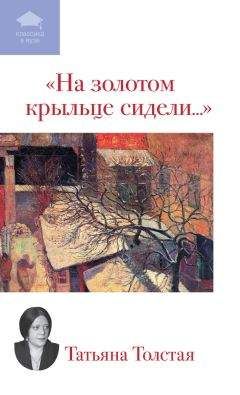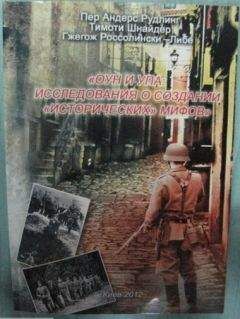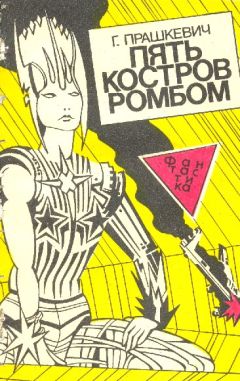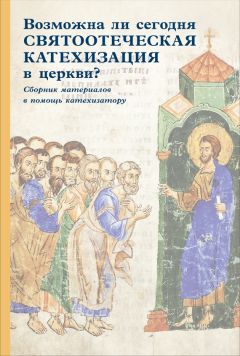Геннадий Обатнин - История и повествование
Что же символично в перспективе Флоренского? «Итак, изображение, по какому бы принципу ни устанавливалось соответствие точек изображаемого и точек изображения, неминуемо только означает, указует, намекает, наводит на представление подлинника, но ничуть не дает этот образ в какой-то копии или модели. От действительности — к картине, в смысле сходства, нет моста: здесь зияние, перескакиваемое первый раз — творящим разумом художника, а потом — разумом, сотворчески воспроизводящим в себе картину. Эта последняя, повторяем, не только не есть удвоение действительности, в ее полноте, но не способна даже дать геометрическое подобие кожи вещей: она есть необходимо символ символа, поскольку самая кожа есть только символ вещи. От картины созерцатель идет к коже вещи, а от кожи — к самой вещи» (выделено автором; Флоренский 1993: 252). Это описание могло бы быть включено естественнейшим образом в записи Ч.-С. Пирса. Оно также видится достаточно органичным определению вторичных моделирующих систем, за одним примечательным исключением. Лотман говорит, что искусство, как и вообще восприятие, создает модели, а модели замещают объект в процессе восприятия. В приведенном отрывке Флоренский скорее отталкивается от подобного экстремального «реализма». Приведенное рассуждение настаивает, что искусство не создает дубликатов и моделей. Его нельзя использовать вместо реальности. Или в качестве реальности. Лотман же во многих трудах, например по театрализации быта, демонстрирует именно ту самую тенденцию, когда текст властно вторгается в жизнь вплоть до полного неразличения, где текст, а где жизнь. Впрочем, Флоренский не был бы мистиком, если бы оставался последовательно на позициях отрицания трансцендирующих возможностей символа. Амбивалентность в определении «что и как» означения, как кажется, прямо связана с диалектическим пониманием «двоемирия», о чем пишет З. Г. Минц в применении к Соловьеву.
Второй тип понимания проблемы означения у Флоренского связан с трактовкой двух типов репрезентации: это ложный натурализм и подлинный символизм: «Идя от действительности в мнимое, натурализм дает мнимый образ действительного, пустое подобие повседневной жизни; художество же обратное — символизм — воплощает в действительных образах иной опыт, и тем даваемое им делается высшею реальностью» (Флоренский 1993: 19–20). Следующий абзац начинается со слов: «И то же — в мистике» (Флоренский 1993: 20). Здесь можно видеть явную отсылку к философии символизма по вопросу о подлинном символическом языке, открывающем истину. Тут еще очень важно, что знак, символ представляет высшую форму реальности, которая замещает натуралистическую реальность повседневности. Именно с таких позиций анализируются православной храм и иконы в «Иконостасе», именно в качестве символов-моделей высшей реальности. То есть это определение вполне совместимо с определением модели по Лотману. Разница между мистической семиотикой Флоренского и позитивистской семиотикой Лотмана лежит не в конструктивной, но оценочной плоскости. Там, где Флоренский щедро пользуется словами «высший, мнимый, действительный», Лотман тщательно избегает подобных выражений. Так мы видим, что вопрос о различиях сводится к тому, достаточно ли избегать оценочного пафоса, чтобы остаться в рядах позитивизма? Как показывает история, этого оказывается достаточно.
Я приведу цитату из работы А. Лосева, одного из самых верных и последовательных учеников П. Флоренского (и одного из тех скептиков по отношению к структурной поэтике, поименованных М. Лотманом в его статье о философском фоне тартуской школы, — Лотман М. 1995:215–215), с тем чтобы показать, к каким результатам приводит открытое следование мистической диалектике: «В символе и „идея“ привносит новое в „образ“, и „образ“ привносит новое, небывалое в „идею“; и „идея“ отождествляется тут не простой „образностью“, но с тождеством „образа“ и „идеи“, как и „образ“ отождествляется не с простой отвлеченной „идеей“, но с тождеством „идеи“ и „образа“. В символе все „равно“, с чего начинать; в нем нельзя узреть ни „идеи“ без „образа“, ни „образа“ без „идеи“. Символ есть самостоятельная действительность. Хотя это и есть встреча двух планов бытия, но они даны в полной, абсолютной неразличимости, так что уже нельзя сказать, где „идея“ и где „вещь“. Это, конечно, не значит, что в символе никак не различаются между собою „образ“ и „идея“. Они обязательно различаются, так как иначе символ не был бы выражением. Однако они различаются так, что видна и точка их абсолютного отождествления, видна сфера их отождествления» (Лосев 1991: 48; курсив везде автора). Кроме курсива, как знака определенной деавтоматизации слова, Лосев широко использует и кавычки, также указывающие на некие дополнительные или смещенные обертоны смысла. Ни одно ключевое слово у него не равно себе. Это описание может быть легко использовано в качестве иллюстрации диалектики формы и содержания, но равным образом вполне соответствует сущности трансцендирующего символизма. Для Лосева вполне естественно заключить: «В символе самый факт „внутреннего“ отождествляется с самым фактом „внешнего“, между „идеей“ и „вещью“ здесь не просто смысловое, вещественное, реальное тождество» (Лосев 1991:49; курсив и выделение авторские).
Поскольку Лосев публиковал свои работы в советской печати, он не использовал откровенно мистической, то есть оценочной терминологии, однако его понимание символа совершенно идентично трактовке, восходящей к гностическим, герметическим и каббалистическим традициям. Можно сравнить это определение с определением символа у Гершома Шолема, пожалуй, одного из наиболее авторитетных современных исследователей еврейского мистицизма. «Основные течения в еврейской мистике»:
В мистическом символе действительность, сама по себе не имеющая зримой для человека формы или образа, становится понятной и как бы видимой через посредство другой действительности, которая облекает ее содержание зримым и выразимым значением, примером чего может служить крест у христиан. Предмет, становящийся символом, сохраняет свою первоначальную форму и свое первоначальное содержание. Он не превращается в пустую оболочку, заполняемую новым содержанием, в самом себе, посредством своего собственного бытия, он высвечивает другую действительность, которая не может проявиться ни в какой другой форме.
(Шолем 1989: 52)Таким образом, можно утверждать, что, видимо, позитивистское определение знака или модели ни в малейшей степени не противоречит таковому в традиции мистицизма. Христианский крест является очевидным примером такого символа-модели, которая замещает объект в процессе восприятия. Использование креста во всей его объективной материальности способно кардинально изменить как символическую, так и физическую реальность повседневной земной жизни. Например, люди становятся братьями и сестрами при обмене крестами. Крест замещает кровное или, современным языком, генетическое родство. Этой же проблеме примата конвенционального знака посвящена повесть Ю. Тынянова «Подпоручик Киже» (1928). Этой проблеме цинического или шизофренического поведения следования конвенциям при осознании их конвенциональное™ посвящены работы постмарксистской школы социологии — Альтюссера, Слотердайка, Жижека. Если читать работы Лотмана под таким углом, обнаружится, что значительная часть из них именно посвящена описанию подобной ситуации, когда модель и «вторичная модель» становится важнее замещаемого ею объекта. Конечно, осознание принципов устройства символа не означает автоматически веру в его магические свойства. Тем не менее описание устройства того, что символ символизирует, подозрительным образом оказывается его зеркальным двойником.
Понятие модели у Лотмана иерархично и функционирует в достаточно сложном режиме постоянного взаимодействия между различными уровнями «реальности». Так, он демонстрирует в ряде работ, как каждодневное доведение имитирует поведение на сцене (обратное как будто бы очевидно со времен Аристотеля), или показывает, как народная картинка — лубок создает вокруг себя в быту игровое карнавальное пространство («Художественная природа русских народных картинок», 1976). Эта ситуация в общем виде определялась автором как «театрализация» поведения на всех уровнях и в разных приложениях (Лотман 1973а, 1973в, 1978, 1981, 1989). Таким образом, выявляется расплывчатость, размытость самого понятия границы между знаковым и не-знаковым (незначительным) пространством, при этом сама эта оппозиция чрезвычайно активна и замкнута в систему взаимного уподобления по принципу, напоминающему ленту Мебиуса: театр подражает картине, картина театру, быт театру и картине, лубок народному театру — райку и так далее. Театр здесь понятие ключевое, он превращается в некую метамодель любого вида искусства, при этом исключительно продуктивную и обладающую действительно большой объяснительной силой.