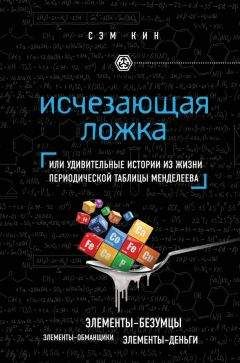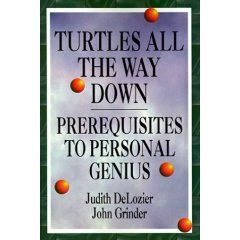Сэм Кин - Синдром Паганини и другие правдивые истории о гениальности, записанные в нашем генетическом коде
К примеру, Ламарк предположил, что болотные кулики, стремясь сохранить свои огузки сухими, ежедневно чуть-чуть растягивали ноги и в конце концов обзавелись длинными «ходулями», которые унаследовали и их птенцы. Таким же образом жирафы, чтобы доставать листья с самых верхушек деревьев, приобрели длинные шеи и передали их потомкам. Подобные предположения возникали и по поводу людей: например, год за годом махавшие молотом кузнецы якобы передавали детям свою внушительную мускулатуру. Заметим, что Ламарк не говорил, что животные рождаются с более длинными придатками, быстрыми ногами или прочими чертами, дающими преимущество; вместо этого существа старались развить эти черты. И чем усерднее они старались, тем лучшее наследство передавали своим детям (в этой теории слышны отголоски социологии Вебера и трудовой этики протестантов). Никогда не отличавшийся скромностью Ламарк объявил свою теорию «совершенной» к 1820 году.
Через двадцать лет изучения этих глобальных метафизических представлений о жизни в абстрактном понимании, реальная физическая жизнь Ламарка начала разрушаться. Его научная позиция никогда не считалась основательной, потому что теория приобретенных признаков так и не впечатлила многих коллег Ламарка: в одном из самых сильных и правдоподобных опровержений, приводимых ими, отмечалось, что еврейские мальчики вот уже три тысячи лет подряд рождаются необрезанными. Кроме того, Ламарк постепенно слеп и вскоре после 1820 года был вынужден уйти на пенсию как профессор «насекомых, червей и микроскопических животных». Не имея ни славы, ни доходов, вскоре он превратился в бедняка, целиком зависящего от забот своей дочери. Перед своей смертью в 1829 году он смог лишь «арендовать могилу», то есть его останки покоились с миром всего пять лет, а затем, изъеденные червями, были выброшены в парижские катакомбы, чтобы освободить место в могиле для другого клиента.
Но еще большее посмертное оскорбление Ламарк снес от любезного барона. Кювье и Ламарк сотрудничали в постреволюционном Париже, будучи если не друзьями, то уж точно добрыми коллегами. Конечно, с точки зрения темперамента Кювье был почти на 180 градусов противоположен Ламарку. Барону были нужны факты, факты и только факты, он не верил ни во что, отдававшее домыслами, то есть практически ни во что из поздних работ Ламарка. Кроме того, Кювье напрочь отрицал эволюцию. Наполеон, его покровитель, завоевал Египет и привез оттуда тонны настоящих сокровищ для ученого, в том числе фрески с изображениями животных, а также мумии кошек, обезьян, крокодилов и прочих зверей. Кювье не верил в эволюцию, так как видел, что представленные в этих коллекциях виды животных не изменились за несколько тысяч лет – а несколько тысяч лет в то время казались значительным временным промежутком в истории Земли.
Кювье не ограничивался научными опровержениями и использовал для дискредитации Ламарка свои политические возможности. Среди многочисленных обязанностей Кювье была и такая, как сочинение надгробных речей для членов Французской академии наук, и он порой составлял эти речи так, чтобы метко высмеивать покойных коллег. Он начал «Панегирик» Ламарку с восхваления его преданности червям, сожалея, что недостаточно красноречив и богат на похвалу. Затем, по словам автора, он был просто вынужден вспомнить, что его дорогой друг Жан-Батист много раз сбивался с пути истинного – на бесполезную болтовню об эволюции. Барон Кювье использовал против Ламарка одно из его же несомненных достоинств – умение обращаться к аналогиям, щедро рассеяв по тексту карикатурные описания эластичных жирафов и влажных огузков пеликанов, которые стали неразрывно связаны с именем Ламарка. «Система, основанная на подобных положениях, может потешить воображение поэта, – резюмировал Кювье, – но даже на мгновение она не заинтересует того, кто сам пробовал вскрывать руку, внутренние органы – да хотя бы птичье перо». В целом этот «Панегирик» заслуживает звания «жестокого шедевра», которое дал ему специалист по истории науки Стивен Джей Гоулд. Но, отбросив морализаторство, ловкому барону стоит отдать должное. Для большинства людей написанные панегирики вызвали бы чуть большее неудобство, чем боль в шее. Кювье видел, что в данном случае может превратить это небольшое преимущество в грозную силу, и имел достаточно опыта, чтобы осуществить это на практике.
После разгромного выступления Кювье некоторые ученые-романтики еще цеплялись за идею Ламарка по поводу пластичности окружающего мира, однако другие специалисты – как, например, Мендель – нашли, что его теории оставляют желать лучшего. Многие, впрочем, не могли окончательно определиться со своими взглядами. Дарвин в печати признавал, что именно Ламарк первым сформулировал теорию эволюции, называя его «заслуженно знаменитым ученым». И Дарвин верил, что некоторые приобретенные характеристики (в том числе, изредка, и обрезанный пенис) могут передаваться следующим поколениям. Но в то же время Дарвин отвергал теорию Ламарка в своих письмах друзьям, называя их «настоящим мусором» и «чрезвычайно бедными», из которых он «не почерпнул ни одной идеи либо факта».
Одна из претензий Дарвина заключалась в том, что он верил, что живые существа получают какие-то преимущества в первую очередь благодаря врожденным, а не приобретенным, как в интерпретации Ламарка, признакам. Дарвин также подчеркивал, что эволюция распространялась очень медленно, потому что врожденные черты могут распространиться только тогда, когда особи, обладающие преимуществами, произведут потомство. Противоположно этой гипотезе, в интерпретации Ламарка животные могли сами контролировать процесс эволюции: длинные конечности или крупные мускулы, распространялись очень быстро и в пределах одного поколения. Возможно, худшим из тезисов Ламарка, для Дарвина и кого бы то ни было еще, было то, что француз продвигал голословную телеологию – мистическое учение о стремлении живых существ к совершенствованию и искоренению недостатков путем эволюции – то, что биологи хотели с корнем выполоть из своей работы[98].
Столь же убийственными для теории Ламарка оказались исследования ученых, живших после Дарвина. Они обнаружили, что в организме проводится четкая граница между обычными клетками, с одной стороны, и сперматозоидами (яйцеклетками) – с другой. Соответственно, даже если у кузнеца будет такая же мускулатура, как у державшего небесный свод Атланта, это совершенно ничего не значит. Сперматозоиды никак не зависят от клеток, образующих мышцы, и если у кузнеца они будут 98-миллиметровыми хиляками со слабой ДНК, то, скорее всего, и дети кузнеца родятся слабаками. В 1950-х годах ученые укрепили идею подобной независимости, доказав, что клетки организма не могут изменить ДНК, заключенную в сперматозоиде или яйцеклетке, – единственную ДНК, которая имеет значение в процессе наследования. Теория Ламарка, казалось, умерла окончательно.
Однако в течение последних десятилетий ламарковские черви к нам вернулись! Теперь специалисты рассматривают наследственность как нечто менее стабильное, а барьеры между генами и окружающей средой – как нечто более проницаемое. И это еще не все интересное по поводу генов: заходит речь и об экспрессии генов, то есть их «включении» и «выключении». Клетки обычно «выключают» ДНК, нанося на ее поверхность маленькие бугорки – метильные группы, или же «включают», используя ацетиловые группы, разматывая белковые «узлы». И ученые теперь знают, как клетки передают эти точные паттерны метильных и ацетиловых групп дочерним клеткам, когда бы они ни делились – своеобразная «клеточная память». Правда, ученые когда-то думали, что метильные группы в нейронах отвечают за запись воспоминаний у нас в мозгу. Это не так, но связи между метилами и ацетилами могут влиять на формирование памяти. Ключевой момент в том, что все эти модели хоть и стабильны, но непостоянны: определенные эксперименты с изменением окружающей среды могут добавлять и убавлять метилы и ацетилы, изменяя паттерны. Это фактически разрушает память о том, что организм делал со своими клетками, а эта память – определяющий момент, первый шаг в любой описанной Ламарком наследственности.
К сожалению, негативный опыт может быть зафиксирован в клетке столь же легко, как позитивный. Сильные эмоциональные переживания порой могут переполнить мозг млекопитающего нейрохимикатами, которые принесут метильные группы туда, где их не должно быть. Мыши, которые третировались другими мышами, когда были детенышами, часто имеют эти метильные паттерны в своем мозгу. Так же как и мышата, выращенные нерадивыми матерями (родными или нет), которые отказывались вылизывать, греть и нянчить детенышей. Когда такие мыши вырастают, они теряются в стрессовых ситуациях, причем их провалы нельзя объяснить плохими генами: родные и «усыновленные» мышата в конце концов ведут себя одинаково неестественно. Аномальные метильные паттерны с самых ранних лет впечатываются в мозг, и, поскольку нейроны продолжают делиться, а мозг – расти, паттерны навсегда увековечивают себя. События 11 сентября 2001 года могли оставить следы в мозгу еще нерожденных людей. У некоторых беременных женщин на Манхэттене обнаружили посттравматическое стрессовое расстройство, которое могло эпигенетически активизироваться и деактивизироваться с помощью как минимум дюжины генов, включая гены мозга. Эти женщины, особенно те, кто в минуты трагедии был на последнем триместре беременности, в конце концов родили детей, более тревожных, чувствительных к переживаниям, чем другие дети, сталкивающиеся с нестандартными раздражителями.