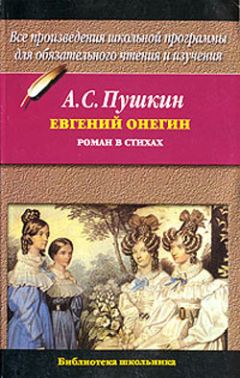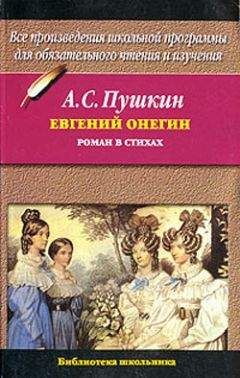Юрий Чумаков - Пушкин. Тютчев: Опыт имманентных рассмотрений
(I, 163)
Двоение охватывает вместе два первых стиха: пророческая готовность совмещена с фрустрацией. Третий и четвертый стих объясняет тревогу сердца: оно «бьется на пороге», то есть еще не переступило раздельной линии, к тому же слово «бьешься» получает колеблющееся и расширенное значение. «Двойному бытию» предшествует знаменитое тютчевское «как бы», что подчеркивает неотчетливость образа, его недопроявленнность. Пятый стих, как и первый, обращен к душе: «Так, ты – жилица двух миров», а шестой-восьмой стихи открывают уже ее двоение:
Твой день – болезненный и страстный,
Твой сон – пророчески-неясный,
Как откровение духов.
(I, 163)
Обращает на себя внимание скошенная бинарность. День противопоставлен не ночи, а сну. С одной стороны, здесь метонимия, или, может быть, метрическое сопротивление, но так или иначе, сон выглядит какой-то особой областью, не совсем отрезанной антитезой. Третья строфа сначала продолжает мотив фрустрации, а затем как выход из мучительной раздвоенности предлагается христианское смирение.
Обратимся теперь к еще одному тютчевскому шедевру «Сон на море». Начиная с заглавия, потом в начале и конце стихотворения, Тютчев говорит о взаимовключении друг в друга двух стихий:
И море и буря качали наш челн;
Я, сонный, был предан всей прихоти волн.
Две беспредельности были во мне,
И мной своевольно играли оне.
(I, 51)
Совмещенные беспредельности внутри лирического «я» значимо вводятся нулевой анакрузой четырехстопного трехсложника, далее двусложными анакрузами отмечаются переходы к отдельным картинам стихий и переход к концовке, где, как сказано, стихии снова смешиваются:
Но все грёзы насквозь, как волшебника вой,
Мне слышался грохот пучины морской,
И в тихую область видений и снов
Врывалася пена ревущих валов.
(I, 51)
Нельзя не отметить асимметричность двух стихий, означающую неотграниченность внешнего и внутреннего в единичном экзистенциальном присутствии, как это было в «Вещей душе», в «Снах» и др., а также взаиморасположения пространств моря и сна друг над другом, по излюбленной Тютчевым вертикали: «гремящая тьма» – внизу, «болезненно-яркий» сон – наверху, а над ними «по высям творенья» шагает поэтическое «я», удерживающее в себе морской хаос и космическую грезу.
«О вещая душа моя…» и «Сон на море», можно сказать, в каноническом виде показали то, что мы считаем reduplicatio, то есть раздвоением, не доведенным до конца. Этот принцип развертывания лирической темы легко продемонстрировать на множестве текстов, но мы не хотим их даже называть, потому что reduplicatio Тютчевым в его стихотворениях настолько изменчиво, разветвлено и многосмысленно, что количественное увеличение примеров и классификация скорее запутают понимание, чем прояснят его. Можно пересчитать тютчевские клише, ключевые слова и словесные мотивы, строфические формулы и их комбинации и т. п., но постижение смысла целого стихотворения Тютчева достигается лишь единичными рассмотрениями, сколько бы мы ни находили аналогий у самого поэта и вокруг него. Сопоставления помогают, подтверждают, проясняют, но в конце концов являются лишь дискурсивно-логической экспликацией интуитивных прорывов. Да и, кроме того, все конкретные формы reduplicatio сводятся к основаниям тютчевского кода или к тому, что за ним скрывается, поэтому фундаментальные дефиниции немногочисленны.
Некоторые трудности в работе с reduplicatio могли возникнуть при сравнении с собственным словоупотреблением Тютчева, у которого есть и раздвоение и редупликация. Они могут содержательно совпадать или не совпадать с рамками нашего термина, но небольшими расхождениями можно пренебречь. Во всяком случае, мы не нашли существенной разницы в трех моментах. Так, в стихотворении «Памяти В. А. Жуковского» (1852) есть строки: «В нем не было ни лжи, ни раздвоенья, – / Он все в себе мирил и совмещал» (I, 150), а в стихотворении «Памяти М. К. Политковской» (1872) читаем: «О, если в страшном раздвоенье, / В котором жить нам суждено» (II, 534). Весьма значима выдержка из письма Тютчева кн. И. С. Гагарину от 2 мая 1836 о нелепости самого писания, на что обратила наше внимание Н. Е. Меднис: «Ah! l'écriture est un terrible mal, c'est comme une seconde chute pour la pauvre intelligence, comme un redoublement de matière.» – «Ах, писание – страшное зло, оно как бы второе грехопадение бедного разума, как бы удвоение материи».[463] Все три цитаты, пожалуй, близко примыкают к наполнению нашего reduplicatio.
В то же время у Тютчева есть поэтические формы reduplicatio, противоположные по смыслу нашей дефиниции. Это случаи, когда сдваивается и уравнивается различное положение вещей, несовместимые модусы мира, когда линейная последовательность заменяется параллельным совмещением. Один из таких случаев – притягательное «Безумие» (1834 или ранее).
Стихотворение, предельно непрозрачное для понимания, результативнее всего осмыслить как парадокс, согласно современной фразеологии, «очевидное-невероятное». «Безумие» Тютчева призвано опровергнуть логику миропорядка и превосходство реального над возможным. Пламенная пустыня, в которой пребывает Безумие, и водяной кокон, который услышан им и его окутывает, – представляют собою наложение двух взаимоисключающих событий, происходящих вместе в одном топосе.
Элиминируя интерпретации, что «"Безумие" – это резкое самокритическое стихотворение, в котором поэт выразил мучительные сомнения в своем провидческом даре» (В. В. Кожинов и др.),[464] уклоняясь от контроверзы Тютчева с пушкинским «Пророком» (В. С. Баевский, А. Битов и др.),[465] не принимая ни бреда Безумия, ни его действительной способности почуять воду, которая затем неведомо откуда выступит из «растреснутой земли», – будем защищать интуицию синхронного сопребывания противоборствующих стихий огня и воды. Если же приблизить картину, это видение сопребывания в синхронном моменте последствий огненной катастрофы, пожарища с выжженной и обезвоженной землей «под раскаленными лучами» невидимого солнца и / или какого-нибудь сверхмощного источника излучения, и готовой хлынуть со всех сторон поющей сферы воды, которая хлынула в последней строфе. Похоже, что Тютчев предвосхитил искусство XX века, где Ходасевич императивно писал: «Имей глаза, – сквозь день увидишь ночь…» («Ласточки»), где Андрей Тарковский в «Солярисе» показал, как дождь струится сквозь потолок комнаты. Однако отложим аналогии и перейдем к аргументации.
Сначала несколько общих предпосылок, объясняющих гипотезу. Лирические пейзажи Тютчева, его чувство всеобщей одушевленности неопровержимо свидетельствуют, что поэт не проводил отчетливой границы между т. н. субъективным и объективным. В его стихотворениях, как правило, стихии смешиваются и диффузируют друг сквозь друга. К Тютчеву вполне применима характеристика, данная поэту следующего века, так как Тютчев не вписывается ни в одну из двух культурных эпох, современником которых он был, ни в пушкинскую, ни в некрасовскую, и легко может быть подвинут по исторической шкале: «он отказывается (…) от возможности актуализировать словесное построение в непротиворечивый образ (…), т. е. вступает на путь логического противоречия, диссонанса как художественного приема, мотивированного иррациональностью общего замысла…» (В. М. Жирмунский о Блоке).[466] Если даже это суждение не характеризует всю поэзию Тютчева, то к «Безумию» оно относится в полной мере.
«Безумие» – твердая четырехчастная композиция по схеме 3 + 1 («Весенняя гроза», «Смотри, как на речном просторе…» и др.). У Тютчева, по Ю. Н. Тынянову, «поразительная планомерность построения».[467] Сначала асимметрично поставлена антитеза главной темы, а затем сжато и безоговорочно выступает она сама. В трех катренах развернута тема обгорелой земли, в четвертом возникает как бы ниоткуда тема воды. Безумие замысловатыми росчерками своих поступков динамически связывает обе малоподвижные темы. Столь отчеканенное построение соблазняет внести в текст логически-дискурсивные связи, поискать причины и следствия. Но это совершенно тупиковый ход, потому что мы стоим перед непроницаемой ситуацией абсурда. Почему земля – раскаленное пожарище? Кто или что такое Безумие? Откуда взялась вода? Это далеко не все безответные вопросы.
Зато обе темы, сшитые мечущимся Безумием, предстают чрезвычайно ощутимо и экспрессивно. Они сближены «монументальным стилем» малых форм Тютчева, высокой риторической декламацией. Взятая тональность слегка падает во второй строфе, но лишь затем, чтобы, поднимаясь в третьей, овладеть вершиной концовки. В то же время лексико-тропеические средства, ритмика, синтаксис, формы словоразделов – все иное в двух темах. Первая строфа стоит на двух катахрезах, одна выразительнее другой. «…С землею обгорелой / Слился, как дым, небесный свод» (I, 34) – все словообразы особенно рельефны, так как усилены оживлением бытовой метафоры «слился», а потом окажется, что не только в сухости песков, но и в потоках воды это единственный «водяной» глагол (вся картина воды в четвертой строфе изображена существительными, а глаголы там в левом верхнем углу принадлежат Безумию). Вторая катахреза рисует это неожиданное и жалкое Безумие, живущее в веселой беззаботности. Контрасты таковы, что в глазах встает картина сюрреалиста Ива Танги «Томительный день», где на нижнем фоне неотличимых друг от друга неба и песков пустыни (горизонта нет!) возникают какие-то машины из острых кусков железа и стекла. Последнее четверостишие стихотворения, взятое целиком, представляет из себя строфический оксюморон по отношению к предшествующим.