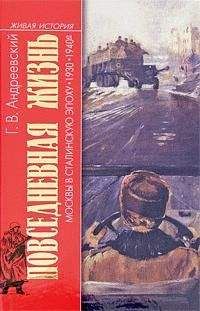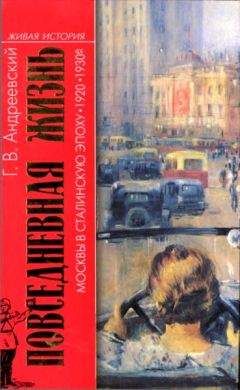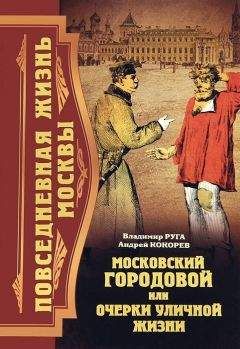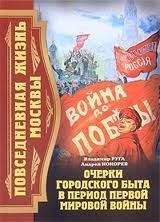Георгий Андреевский - Повседневная жизнь Москвы на рубеже XIX—XX веков
Из того далёкого прошлого дошли до нас такие творения устного школьного творчества, как, например, «Часть речи, которая упала с печи и ударилась об пол, называется глагол» или: «Господи Иисусе, возьми меня за уси, я тебя за бороду — пойдём гулять по городу».
В начале XX века, когда в воздухе появились бациллы свободы, взрослые тоже стали задавать вопросы. Задавали они их как бы сами себе, а на самом деле власти. В 1900 году они стали вопрошать: «А зачем нашим детям учить мёртвые языки?» — и сами себе отвечали: «Латинский и греческий языки никому и ни на что не нужны. Учить их — это безумие. Это всё равно что учиться какой-нибудь римской игре, готовясь к празднику сатурналий, который никогда больше не повторится… исключительное изучение классических языков не может быть названо иначе как устаревшим, въевшимся в плоть и кровь Европы безумием». Среди противников классического образования оказался и сын Льва Николаевича Толстого, Лев Львович. Он тоже выступал против зубрёжки латыни и призывал давать детям более широкое, энциклопедическое, образование. Активнее стали и патриоты, особенно после 1905 года. Их возмущало, во-первых, то, что либералы окрестили революционное движение «освободительным» и тем самым как бы подали ему руку, а во-вторых, они стали опасаться того, что в Москву скоро переселится половина Бердичева, Белостока, Гомеля и придёт время, когда в Москве не будет ни одной русской торговой вывески. Чтобы противостоять «пошлости, глупости, продажности и вообще всей мерзости либерализма», они стали открывать русские школы, в которые не допускались никакие инородцы, спасение от которых они видели в создании истинно русских семьи и школы. «Только истинно русская семья и школа, — писал об этом некий Ряд-нов, — могут дать России истинно русских людей и сознательно подготовленных граждан, вполне способных с пользою служить своему Отечеству, в противном случае школа будет выпускать или жалких Митрофанушек, или космополитов, страдающих недугом мирового переустройства, а, следовательно, в обоих случаях — Понургово стадо, вполне пригодное для анархии и революционной пропаганды…» В заключение автор спрашивал себя: «А что ожидает Россию, когда такие недоросли в умственном и политическом отношении станут появляться на высших ступенях государственного управления?» Ответ на него был ясен, вопрос, как говорится, риторический.
Ну а каким же образом предлагал г-н Ряднов растить «истинно русских людей и сознательных граждан, способных служить Отечеству», какими, то есть, методами? Оказывается, очень просто, с помощью церкви. «Школа для народа, — утверждал он, — может у нас стоять только на церкви, иной школы народ наш не признаёт. Сделать из крестьянского ребёнка грамотного христианина, приготовить его к какой-либо промышленной или ремесленной (кустарной) специальности, чтобы зарабатывать хлеб там, где земля не окупает труда, — вот существенная задача русского народного образования». Итак, опять те же церковно-приходские школы и приготовление крестьянского сына к какой-нибудь «кустарной» работе. Как нередко это бывало в России, прекрасные мысли и благородные желания не выходили за заборы, воздвигнутые «хозяевами жизни» вокруг своих угодий. «Учитесь читать, писать, Бога не забывайте, но знайте и место своё. Вас учили не для того, чтобы вы считали себя равными господам, а для того, чтобы вы лучше на них работали» — так и слышится в речах «радетелей» за благо отечества. Очевидно, привычка к барской жизни способствовала застою в мозгах этих деятелей. Не ведая стыда, они проповедовали рабство, как особенность русской жизни. Вот что писал в «Московских ведомостях» один такой радетель: «То, что в Европе принято называть „социальной борьбой“, борьбой между классами, — явление невозможное у нас до тех пор, пока народ наш хранит своё воспитанное в нём веками христианское настроение. Наш народ думает, что всякий, чем-либо владеющий, владеет вовсе не по праву, а по Божьему произволению, что он только приставник к своему имуществу, приставник, от которого потребуют отчёт там, где будут судить наши дела и помышления. Из такого христианского убеждения нашего народа вытекает его взгляд на богатство и бедность. Народ наш думает, что безусловную ценность имеет только одно — бессмертная душа человеческая, а всё остальное условно и относительно, в том числе бедность и богатство. С точки зрения европейской — не так..» Думаю, что не только с европейской, но и с русской тоже. И словечко-то какое придумали: «приставник». «Приставников» таких на шее у народа сидело немало. Прикрыв срам «божьим произволением», оставив рабам своим «бессмертную душу», а себе всё остальное, они вкушали дары земные, не боясь предстоящего Божьего суда и зная, что Церковь за них заступится на том и на этом свете.
По поводу «истинно русской семьи», гарантирующей, по мнению г-на Ряднова, правильность воспитания, тоже стоит сказать несколько слов. В значительной мере эта «истинно русская семья» была плодом воображения автора, далёким от реальности. В начале XX века многих в России стали волновать вопросы взаимоотношения полов, отношений в семье и пр. Не случайно одна из газет того времени писала: «То, что мы называем сейчас жизнью, совершенно на неё не похоже, это ад какой-то, в котором друг друга едят, топчут, мучают и истребляют. Если так продолжится дальше, то русским грозит вырождение. Ну на что, в самом деле, будет способен народ, растративший свои силы телесные и духовные, постоянно нервно-взвинченный, расстроенный, не видящий перед собою никакой определённой цели и утративший всякое понятие о своём назначении!..» Автор этих слов, наверное, сгустил краски, но нельзя же отрицать и то, что повод к написанию столь мрачных пророчеств ему дала сама жизнь.
Не удивительно, что выраставшие в подобных семьях дети становились всё более непослушными и дерзкими. 2 мая 1897 года помощник классных наставников 4-й гимназии остановил на Тверском бульваре гимназиста, у которого не оказалось гимназического билета, а с фуражки были сняты инициалы учебного заведения. На вопрос, какой он гимназии, гимназист ответил: «Никакой». Нахалом этим оказался некий Эффенбах, ученик седьмого класса. Что с ним было делать? Сечь поздно, а не сечь — распустится ещё больше. Оставить в гимназии — обнаглеет, выгнать — революционером станет. В те тревожные времена благородные родители боялись того, что дети их уйдут в бомбисты, анархисты, революционеры. Они ещё помнили нигилистов, тех самых, о которых писали в своих романах Тургенев и Чернышевский. Родители гимназистов встречали этих нигилистов на улицах Москвы, как и народников в красных мужицких рубахах. Тёмные очки этих нигилистов, перекинутый через плечо плед, небрежность и неопрятность одежды, рабочие рубахи с кожаными поясами, длинные волосы мужчин и короткие женщин, разнузданность манер — рисовали в их глазах образ революционера. Революционеры XX века не носили ни красных рубах, ни тёмных очков, ни пледов. Они выглядели вполне обыкновенно, но от этого казались ещё страшнее: ведь их трудно было распознать и оградить от их влияния своего сына или свою дочь.
С каждым годом время становилось всё более тревожным. То и дело кого-то резали, в кого-то стреляли, кого-то взрывали: то министра, то губернатора. А приобрести револьвер или смертельный яд мог любой. Цианистый калий можно было купить по рецепту в аптеке. Этим цианистым калием даже посуду чистили в некоторых ресторанах. Некоторые революционеры носили его при себе в скорлупе от грецкого ореха, чтобы уйти в случае ареста из жизни. Револьверы без всякого разрешения продавались в фирменном магазине тульского оружейного завода на Никольской, хотя в других оружейных магазинах Москвы на их покупку требовалось разрешение. Не продавалась только взрывчатка, зато можно было приобрести её составные части.
Когда в середине 80-х годов XIX века общественность взволновали случаи самоубийств среди вполне приличной и обеспеченной молодёжи, в городе начались разговоры о мании самоубийств, спровоцированной свободной продажей огнестрельного оружия и ядов. Некоторые с этим не соглашались. Они говорили: «Никакие ограничения, никакие запреты не помогут. Запретите аптекам продавать яды, магазинам револьверы и кинжалы, — останутся серные спички, простые ножи, рельсы, дно реки, обрывок верёвки». В чём-то они были безусловно правы. В те времена многие самоубийства действительно совершались с помощью раствора фосфора с фосфорных спичек, а потом нашатырного спирта. Однако лизнуть цианистый калий или нажать на курок пистолета всё-таки легче, чем броситься под поезд или выпрыгнуть в окно. Применение самоубийцами огнестрельного оружия позволяло к тому же уйти из жизни максимально эффектно. Как-то студенты Московского императорского университета Чулков и Вишняков решили застрелиться в саду «Эрмитаж» на Божедомке, но там им помешали это сделать. Тогда они пришли в один из ресторанов Арбата, сели за столик напротив друг друга, сосчитали: раз, два, три и одновременно выстрелили друг в друга. Никаких видимых причин для самоубийства у них не было. Ошибка молодости, так сказать. В 1916 году в сокольнической роще выстрелом из револьвера на почве несчастной любви покончила с собой дочь известного в Москве ресторатора Петра Мартьянова (Мартьяныча)[46] Ольга. Предмет её любви, некий Рубенков, тоже выстрелил в себя, но остался жив.