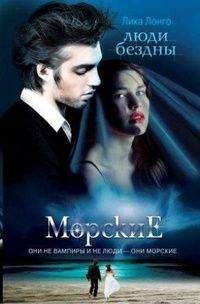Лорен Грофф - Тайны Темплтона
— Эта целка хоть бы писала поразборчивей, — выдавила мать сквозь смех, когда приклеивала записку в альбом.
Но в тот момент в больнице, щупая свой живот и чувствуя внутри мою слабенькую пульсацию, Ви точно знала: она останется в Темплтоне и будет растить здорового ребенка подальше от гедонистических соблазнов. Она решила, что станет хорошей матерью, а я буду расти здесь в полной безопасности.
Откровенно говоря, эта часть истории всегда казалась мне немного сомнительной, я только не могла понять почему. Я просто слушала и впитывала. И, пока сама не побывала в Сан-Франциско, была очень даже рада, что выросла в нашем маленьком красивом городке. Но потом, увидев этот великолепный раззолоченный город в дымке тумана, я поняла, как убог и провинциален наш Темплтон с его дикими ордами туристов, приезжающих полюбоваться на колыбель бейсбола; наш маленький захудалый Темплтон, где нет даже приличного кинотеатра. Мне было очень жаль, что я не выросла в Сан-Франциско с его трансвеститами в невероятных одеяниях, с его знаменитыми кафе; мне казалось, я была бы совсем другим человеком, если б выросла в таком большом и впечатляющем городе. Я была бы лучше, значительней. В общем, мне мой аквариум показался мал.
Вивьен, должно быть, догадывалась, что я была бы рада более яркому детству. Она могла бы задуматься об этом тогда, когда решила осесть в Темплтоне навсегда. И даже могла бы уговорить себя вернуться в Сан-Франциско, чтобы дать своему ребенку жизнь, которую наполнили бы запоминающиеся впечатления. Но в ту затяжную холодную весну она была беременна, бедна как церковная крыса, напугана, и нервы ее шалили от слезания с наркотиков — одним словом, тогда она была неспособна задумываться и рассчитывать жизнь на много ходов вперед. Конечно, нетрудно вообразить, какой одинокой и никчемной она чувствовала себя в этом городе из-за отсутствия образования, в городе, повернувшемся к ней спиной. А огромный старый дом и эта внезапно свалившаяся на нее нищета лишь еще более усугубляли ее одиночество. Вот и росла я на просторной зеленой лужайке перед домом, лето напролет играя возле пруда, вырытого еще при моем деде неподалеку от центра города. Это была поистине сказочная привилегия, но при всем том одета я была в обноски с благотворительной раздачи при пресвитерианской церкви и уж совсем в трудные времена бегала в «Грейт американ» за уцененным сыром. Я была не кто-нибудь, а Вилли Аптон, потомок знаменитостей, любимица учителей истории, меня каждое лето приглашали на практику в ГИАН и на встречи с известными писателями, но при этом я не переодевалась на уроках физкультуры — по той простой причине, что боялась, как бы кто не увидел плачевное состояние моего белья.
Впрочем, это Вивьен тоже считала полезным для моего воспитания; ее излюбленным педагогическим орудием было немножко сырой морковки вместо пряника и регулярная порция едких назиданий вместо кнута. «Ничего не достигнешь, не приложив хоть немного усилий», — постоянно твердила она и всякий раз на Рождество (в случае с нами — языческое) мне приходилось своими руками делать гирлянды из оберточной бумаги, и только после этого мне разрешалось пойти к моим игрушкам, тоже по большей части самодельным — каким-то допотопным уточкам, выструганным из дерева, и тряпичным куклам, сляпанным некогда черной рукой жертв американского рабства. В шесть лет я училась читать по сборнику Энн Секстон «Превращения» и запнулась на слове «предпоследний». Страдальчески вздохнув и сдув со лба челку, я заявила:
— Не могу это прочесть!
Ви, не отрываясь от вязанья, с невозмутимой улыбкой произнесла:
— А я уверена, Солнышко, — можешь.
— Нет, не могу! — крикнула я и швырнула книгу через всю комнату.
Поджав губы, моя мать встала и удалилась на кухню. Приготовив себе там целую тарелку хрустящих хлебцев, намазанных маслом и медом, она вернулась в комнату и начала неторопливо, с наслаждением поедать их, а когда я, не выдержав, подбежала тоже взять себе один хлебец, убрала тарелку за спину, открыла книгу и положила ее мне на колени.
Я, конечно, поняла, что она задумала, но упорно отказывалась прочесть слово, бесившее меня длиной и непостижимым коварным смыслом. Поэтому мне пришлось лишь наблюдать, как Ви смачно хрустит хлебцами, закатывая от удовольствия глаза, облизывая пальцы и приговаривая: «Такой вкуснотищи я сроду не ела!» Когда на тарелке остался всего один хлебец, я не стерпела — и выдала вслух несколько собственных версий проклятого слова: «Пре-под-след-ный, пре-дос-плед-ный, пере-пос-лед-ний». Наконец у меня получилось. Мать улыбнулась, протянула мне хлебец, и я жадно смолотила его в ту же минуту.
Кстати, она была права — такой вкуснотищи я и сроду не ела. В те годы, хоть я и осмеливалась с ней спорить и идти против ее воли, она всегда оказывалась права. Мне и в голову не приходило, что она может быть не права — в мои ранние годы мать была единственной моей подругой. А я ее. А потом она отдала меня в детский сад, а сама записалась на курсы медсестер в Онеонте, после чего получила работу в больнице Финча у нас в Темплтоне и мир ее внезапно расширился. У нее появились подруги, они пили с ней кофе, терли свои ноющие спины и жаловались ей на судьбу. Чуть позже, уже в старшей школе, я начала подозревать: некоторые из женщин были ей не просто подругами — особенно те, кто оказывался у нас по утрам в субботу, завтракал ее омлетами и смотрел со мной мультики. Меня настораживали их крутые бедра, голодные обкусанные рты, странные улыбки… Они не догадывались, что я за ними наблюдаю, но я заподозрила кое-какие странности еще задолго до того, как узнала об их существовании. Окончательную точку в моих «изысканиях» поставила сама мать, назвав себя как-то спьяну бисексуалкой, — мне тогда было уже шестнадцать.
Такая вот жизнь была у Вивьен в годы после моего рождения. Она работала медсестрой в отделении неизлечимых больных, скрашивая последние дни потерявшим всякую надежду людям неистощимыми запасами нежности, какой мне от нее почти не доставалось, но я точно знала — она у нее есть, только сидит глубоко внутри. И уже совсем недавно, всего за несколько месяцев до моего бесславного возвращения в Темплтон, она, просыпаясь по утрам, нет-нет да и благодарила судьбу за то, что сумела выжить тогда, в семидесятые. А иной раз у нее было чувство, что она израсходовала всю себя — отдала мне без остатка. В начале своего долгого пути к Христу она проводила многие часы в горячей молитве, пытаясь оградить меня от ужасных ухабов и ям, которые ей виделись на моем пути. Глубоко за полночь она сидела за кухонным столом, низко склонив голову, и молилась, от всего сердца желая мне успеха. Иногда в этом молитвенном механизме что-то заклинивало, и тогда она ощущала всю хрупкость такой конструкции, как вера в Бога.
А я, находясь на другом конце страны, в Сан-Франциско, где ночами терзала эзотерические трактаты, вдруг отрывалась от текста, словно услышав далекий зов. В такие моменты этот громадный пульсирующий мир представлялся мне коварным и жестоким, вероломные сирены на его улицах, казалось, так и заманивали ловушки смерти и хаоса. В ту зиму после атаки на Нью-Йорк страна погрузилась в угрюмый мрак и замерла в шаге оттого, чтобы ввергнуться в апокалипсис. Наш хрупкий мир повис на волоске, и такую же хрупкость я чувствовала внутри себя. Мне достаточно было лишь легкого толчка, чтобы свалиться в пропасть.
Только зная все о Вивьен, можно, наверное, понять ее состояние в тот день, когда всплыло чудовище, а я вернулась домой. Странных параллелей трудно было бы не заметить — беременность, незамужнее одиночество, в одночасье утраченные амбиции. Мое возвращение в Темплтон было унизительным. Вместе с ним, который раз в жизни, рухнули ее собственные амбиции — погибли как сбитый ударом трости цветок. Да и как еще ей было смотреть на меня в то утро, когда я стояла перед ней, двадцативосьмилетняя дурочка, грязная с дороги, отощавшая, остриженная как мартышка, с разбитым сердцем, с глазами, распухшими от слез? Конечно, она видела во мне только жалкую неудачницу, а уж никак не ту элегантную и успешную молодую женщину, какой она всегда хотела меня считать. Ощущение, что годы прошли впустую, а силы были потрачены зря, в один миг опустошило ее. И я могу себе вообразить, как она в тот момент меня ненавидела.
ВОТ КАК ВИЛЛИ АЛТОН ВСЕГДА ПРЕДСТАВЛЯЛА СЕБЕ СВОЮ РОДОСЛОВНУЮГлава 4
«МОЛОДЫЕ ПОБЕГИ» РАССКАЗЫВАЮТ
Нам нравится бегать трусцой. Мы бегаем вместе уже двадцать девять лет и будем бегать, пока хватит сил. Пока не развалимся на части и не начнем харкать кровью. Пока из нестарых не сделаемся стариками — как когда-то из молодых еще не старыми, про кого говорят «средних лет». Так вот и бегаем. Зимой — под снегом, по скользкому льду. И летом, которое у нас в Темплтоне всегда бывает бархатным. Бегаем по утрам, когда можно спокойно полюбоваться красотой нашего города. Когда он принадлежит только нам, а туристы в своих постелях еще видят сны о бейсболе, Клайдсдейле и гольфе. О, как красив наш город на заре! Он согревает душу, как праздник, — и наша больница с дымовой трубой, похожей на огромный торчащий палец, и озеро, сверкающее словно змеиная чешуя, и Музей бейсбола, и Музей ремесел, и холмы, и наши дома, веером раскинувшиеся в туманной долине, дома, где в это время еще мирно спят наши семьи. Не спим только мы, «молодые побеги». Мы бежим трусцой и любуемся всей этой красотой, как любовались ею двадцать девять лет подряд и летом, и зимой, и весной, и осенью.