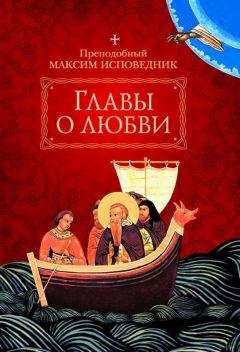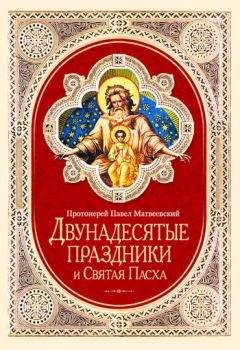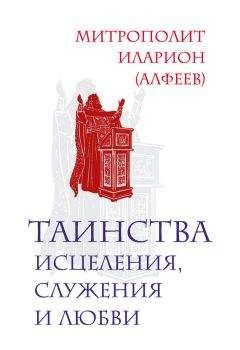Наталия Сухинина - Полёт одуванчиков
И увидела Вика красавицу, ясноглазую, знающую себе цену. У Вики задрожал подбородок. Ничего себе… Горячее сердце ушло в холодные пятки. Разве может она тягаться с этой фотомоделью? Всё в ней продумано, всё гармонично, всё выверено до мельчайших нюансов. Поворот головы, взгляд, вроде как открытый, но с таким опасным подтекстом — да-да, знайте, я могу всё, если захочу, конечно. Вика сверлила взглядом коварную незнакомку — разлучницу. Одета как… Ажурная белая пелерина… Под ней едва просматривается открытое платье на узеньких бретельках. Пелерина, сразу видно, из дорогих, скорее всего, вологодских кружев. Красивая вещь. Вот бы себе такую связать, а то всё вяжет безрукавки да шапочки. Это не для меня. На мне это как на корове седло. Вика, Вика, у тебя никаких шансов. А Галина Степановна… Не буду раскисать. Буду бороться. И потерплю… пока потерплю.
Звонок в дверь. Вика вздрогнула, почему-то стала прятать фотоаппарат под подушку, хотя до этого он спокойно лежал на письменном столе. Илья! Как не вовремя! Открывай же, а то заподозрит, что она копается в его вещах.
Илья с порога:
— Дети спят?
— Легли, уже поздно.
Глянул на часы, присвистнул:
— Ничего себе, загулял…
Да он не считает нужным ничего скрывать. Какая наглость! Закипела, закипела в Вике горячая от обиды кровь. Она резко развернулась, влетела на кухню, зачем-то налила в чайник воду, зачем-то его включила.
— Дай что-нибудь перекусить, я голодный как волк.
Подлетела. Встала вплотную. Ей очень захотелось влепить Илье пощёчину. Сдержалась. Спросила, кипя гневом:
— Ты где был?
Илья посмотрел на неё удивлённо. И вдруг улыбнулся:
— Представляешь, на катке…
«Ни стыда ни совести. Негодяй, бабник, предатель», — кипела от злости Вика.
— Значит, на катке? Она ещё и на коньках катается? А шуба у неё из Италии или из Греции? Я всё знаю. Ты ничтожество. Исчезни из моей жизни, мы обойдёмся без тебя, дети вырастут, поймут. Я им всё объясню. Ты ничтожество.
Пощёчина. Не Вика Илье. Илья Вике. Отшатнулась. Широко раскрытыми глазами смотрела на мужа, щека мгновенно опалилась краснотой с малиновым оттенком. Никто никогда не поднимал не неё руку. Даже пьяный отец. Илья переступил. Это не прощается.
— Уходи. Уходи от нас. Тебя больше нет. Ты понял?
Илья сам испугался случившегося. Обмяк. Открыл холодильник…
— Водку ищешь? Алкаш! Иди, пусть тебе твоя любовница наливает. Она, наверное, французские коньяки пьёт, вот и будете на пару…
И — получила ещё.
Щека горела нестерпимо. Сердце клокотало, Вика с головы до ног ощущала себя сплошной испепеляющей ненавистью. После всего что произошло, это — конец.
Илья тихо, как побитый, стоял у окна. За тяжёлой тёмной шторой в прозрачном морозном воздухе плавали звёзды.
— Это тебя в Дивееве научили так по-скотски себя вести? — спросил он.
И стал укладывать вещи.
Вика уже не видела этого. Она ушла в ванную, включила воду. Не для того, чтобы выплакать свою беду. Она делала холодные примочки на нестерпимо горевшую малиновую щеку.
Ланиту, по-православному.
Глава третья
Люди встречаются
Ранка у Даши ныла нестерпимо. Перед незнакомым человеком стыдно.
— Больно? — спросил он.
— Ещё как, — призналась честно.
— Надо что-то придумать. Сидите, ждите меня здесь.
Даша присела на мёрзлую скамейку, прикрыв царапину шарфом, но тут же встала, прижалась спиной к бортику катка. Народу заметно поубавилось, время шло к закрытию.
Человек пришёл быстро, принёс йод и кусок ваты.
— В медпункте дали. Сказали, чтобы привёл пострадавшую, но я убедил их, что сам хирург.
— Вы правда хирург?
— Убедил. Чтобы не мешали лечить пострадавшую.
— Может, не надо йодом, больно будет.
— Потерпите, врач знает, что делает.
Человек осторожно смазал ранку. Так защипало! Да и прошло. Даша повеселела.
— Вы уж меня простите, что я в вас врезалась. Я не хотела.
— И я не хотел куртку расстёгивать, да жарко стало, расстегнул. Простите, что я расстегнул куртку.
— Вы весёлый…
— А я, знаете, на каток выбрался после большого перерыва, сто лет не был. Так мне радостно сегодня, будто в юность свою нырнул.
— Ой, и я тоже. Всё дела, живу как-то наспех. Мы с подругой договорились, а она не пришла. Так я одна. Хорошо! Каток — это радость.
— Давайте знакомиться. Меня зовут Илья. А имя пострадавшей?
— Даша. Дарья Малинина.
Совсем опустел каток. Даша и Илья стояли у бортика и разговаривали. Даше очень легко говорилось. За полчаса она рассказала Илье про работу, про маму с папой («такие хорошие, живут, как два ангелочка»), про дачу, про подруг. Она уже собралась рассказать, как они с мамой один раз повздорили из-за электрика, но решила, что это уже слишком.
Замёрзли ноги.
— Я, наверное, пойду, Илья.
Уходить не хотелось.
— Давайте посидим вон в том кафе, там тепло, мы студентами всегда после катка туда греться бегали. Или вы торопитесь?
— Никуда я не тороплюсь. Мне вообще уходить не хочется.
Вот это она ляпнула. Нельзя же так с незнакомым мужчиной. Но к Даше пришло непонятное «хулиганское» настроение. С Ильёй было так просто, так весело, так забавно, как будто они выросли на одной улице, ходили в одну школу, долго не виделись и вот наговориться не могут.
— И мне не хочется уходить. Это сладкое слово — свобода… Решено, идём прожигать жизнь, тем более что я за причинённые вам телесные повреждения должен выплатить неустойку.
— Илья, а у меня очень заметно… царапину?
Илья пристально посмотрел на Дашу.
— Нет вроде. Только, если очень всматриваться, но я не буду.
В кафе тепло, хотя и неуютно. На пластмассовых столиках крошки, мятые салфетки, остатки еды. Народу никого, кроме двух подвыпивших старичков, они постоянно чокались и, перебивая друг друга, громко спорили, кто больше любит Россию: Путин или Медведев. Илья усадил Дашу за стол, где почище.
— Я сейчас.
Пошёл к стойке, вернулся с двумя пирожками и бумажными стаканчиками.
— Коньяк. Не скажу, что французский, но что было. А вот с закуской плохо. Всё съели.
И было замечательно, и было прекрасно. Даша раскраснелась от коньяка, её обдало приятным, весёлым жаром.
— Согрелась? — спросил Илья.
— А ты?
Не заметили как перешли на ты. Вернее, заметили, но не придали этому особого значения. Как-то само, как-то всё само…
Но вот уже и кафе закрывается. А им бы ещё поговорить.
Опять вышли на мороз. Даша подняла воротник полушубка.
— Красивая у тебя шуба…
— Недорогая совсем. На ярмарке купила. Первый раз сегодня надела. На каток.
Простились в метро. Илье на «серую» ветку, Даше на «зелёную».
— Встретимся?
— Конечно!
До дома Даша не шла — летела. Жадно глотала морозный воздух, вспоминала живые, карие глаза Ильи, его аккуратную рыжую бородку, его голос: «не скажу, что французский, но что было…потерпите, врач знает, что делает…, это сладкое слово свобода…» У него красивый голос, да и сам он красив, бородатый мужественный викинг. Фотографирует. Много ездит. Рассказал, как один раз в гостинице, где он остановился, случился теракт. По веревке спускали женщин.
— Страшно было? — спросила Даша.
— Страшно. И в то же время удивительно, неужели это всё?
Наутро террористы почему-то быстро засобирались и ушли. А если бы не ушли, если бы Илью…
У Даши сжалось сердце. Да и возликовало — всё обошлось! У подъезда Даша закинула вверх голову. Так и есть, на пятом этаже светится единственное окошко, её самые лучшие на свете родители не спят, ждут её, волнуются. А она даже не позвонила, совсем вылетело из головы.
Открыла мама. Сама не своя.
— Дочка, что случилось? Мы с отцом…
— Спите, спите, всё хорошо. Простите меня.
Счастливая. Виноватая.
Но счастливая больше.
Вот этого Петрович никак не ожидал. Открыл своим ключом фотолабораторию, а там, на промятом диване, который Петрович звал «дедушкой моей прабабушки», спал Илья.
Вскочил, борода со сна торчком, глаза припухли.
— Прости, так получилось. Не стал среди ночи беспокоить, разрешения спрашивать.
— «Прости» в карман не положишь. Чайку заваришь, прощу.
Пили чай и помалкивали. Петрович коренаст, немного сутуловат, круглолиц. Все, кто видит его в первый раз, говорят: «Евгений Леонов, копия». Он сидит на стуле, как влитой, основательно сидит. Сделает глоток чая, переждёт, подумает. А на диване, с краешку, застенчиво, Илья. Привёл себя в порядок, но всё равно видно невооружённым глазом, что человеку кисло.
Видит это и Петрович, но помалкивает. Илья видит, что Петрович видит и от этого ему только конфузней. Но сколько можно молчать?
— Ты надолго сюда? — Петрович кивает на диван.