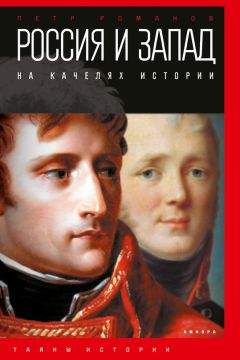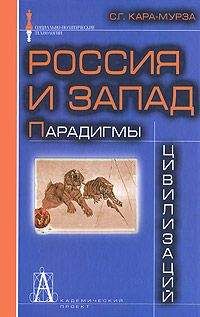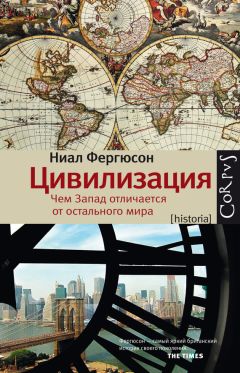Петр Романов - Россия и Запад. От Рюрика до Екатерины II
Граф Сегюр так передает рассказ Екатерины о ее встречах с Дидро:
Я долго с ним беседовала, но более из любопытства, чем с пользою. Если бы я ему поверила, то пришлось бы преобразовать всю мою империю, уничтожить законодательство, правительство, политику, финансы и заменить их несбыточными мечтами.
Екатерина уважала Дидро, но, когда тот с горечью посетовал, что императрица не желает на практике применять его политологические разработки, она резонно заметила, что француз имеет дело с бумагой, а сама государыня с гораздо более тонкой и чувствительной материей – с человеком. Екатерина вспоминает:
…После этого я ему показалась жалка, а ум мой узким и обыкновенным. Он стал говорить со мною только о литературе, и политика была изгнана из наших бесед.
Поистине забавная история произошла с модным в те времена французским писателем Мерсье де ла Ривьером, издавшим сочинение «О естественном и существенном порядке политических обществ». Екатерина пригласила писателя в Россию и обещала ему солидное вознаграждение. Рандеву писателю императрица назначила в Москве, куда собиралась прибыть из Петербурга.
Вот что пишет о дальнейшем сама Екатерина:
Господин де ла Ривиер недолго собирался и по приезде своем немедленно нанял три смежных дома, тотчас же переделал их совершенно и из парадных покоев поделал приемные залы, а из прочих – комнаты для присутствия.
Философ вообразил себе, что я призвала его в помощь мне для управления империею и для того, чтобы он сообщил нам свои познания и извлек нас из тьмы невежества. Он над всеми этими комнатами прибил надписи пребольшими буквами: Департамент внутренних дел, Департамент торговли, Департамент юстиции, Департамент финансов, Отделение для сбора податей и пр. Вместе с тем он приглашал многих из жителей столицы, русских и иноземцев, которых ему представили как людей сведущих, явиться к нему для занятия различных должностей соответственно их способностям. Все это наделало шуму в Москве…
Между тем я приехала и прекратила эту комедию. Я вывела законодателя из заблуждения. Несколько раз поговорила я с ним о его сочинении, и рассуждения его, признаюсь, мне понравились, потому что он был неглуп, но только честолюбие помутило его разум. Я как следует заплатила за все его издержки, и мы расстались довольные друг другом. Он оставил намерение быть первым министром и уехал довольный как писатель…
О том же случае Екатерина рассказала и Вольтеру:
Г. де ла Ривиер приехал к нам законодателем. Он полагал, что мы ходим на четвереньках, и был так любезен, что потрудился приехать к нам из Мартиники, чтобы учить нас ходить на двух ногах.
Приходилось Екатерине сталкиваться и с более радикальными предложениями. Известный своею страстью к приключениям французский писатель Бернарден де Сен-Пьер, вдохновленный появлением столь просвещенной императрицы, приехал к ней с предложением провести на российской земле социально-политический эксперимент – основать где-нибудь в степях «Республику свободных общин», нечто вроде фаланстеров Шарля Фурье. Екатерина, однако, не захотела с ним разговаривать, сочтя подобные предложения полным бредом.
Теоретики-мечтатели в роли практиков действительно иногда смешны и наивны, зато нередко подмечают то, что не в состоянии увидеть и проанализировать хлопотливый практик. Тот же Дидро высказал ряд очень точных замечаний и о самой Екатерине, и о тогдашних русских. «Ни одна нация Европы не усваивает так быстро французское, как Россия, и в отношении языка, и в отношении обычаев», – констатировал он, пообщавшись с русскими в Петербурге. Но тут же не поколебался высказать императрице достаточно нелицеприятное мнение:
Мне кажется вообще, что ваши подданные грешат одной из двух крайностей: одни считают свою нацию слишком передовой, другие – слишком отсталой. Те, которые считают ее слишком передовой, высказывают этим свое крайнее презрение к остальной Европе; те, которые считают ее слишком отсталой, являются фанатическими поклонниками Европы.
Первые никогда не выезжали из своей страны; вторые или не жили в ней достаточно долго, или не дали себе труда изучить ее. Те и другие видят только внешность, одни – издали, другие – вблизи: внешность Парижа и внешность Петербурга. Я очень поразил бы их, если бы показал им, что между обеими нациями существует такая же разница, как между человеком сильным и диким, еще только познавшим зачатки цивилизации, и человеком деликатным и изысканным, но пораженным почти неизлечимой болезнью.
Как видим, философ в те времена чуть с большим оптимизмом смотрел на будущее России, чем Европы. «Вам предстоит заново создать молодую нацию, нам – омолодить старую нацию. Наша задача, быть может, неосуществима. Ваша, конечно, очень трудна», – пишет он Екатерине. Позже точно так же оценивали перспективы России и Европы многие славянофилы.
И еще одно не менее интересное, но уже настораживающее замечание Дидро, которое, конечно, не могло порадовать ни Екатерину, ни ее подданных:
В характере русских замечается какой-то след панического ужаса, и это, очевидно, результат длинного ряда переворотов и продолжительного деспотизма. Они всегда как-то настороже, как будто ожидают землетрясения, будто в моральном отношении они чувствуют себя так, как в физическом отношении чувствуют себя жители Лиссабона [5].
Частично наставления Дидро императрица постаралась учесть, предоставив своим подданным возможность высказать пожелания и даже возражения в ходе обсуждения проекта нового уложения, в так называемом «Наказе». Самого Дидро «Наказ» тем не менее удовлетворил не вполне. Он прямо заявил, что не нашел в документе главного – «ни одного постановления, которое было бы направлено на освобождение массы народа», то есть крепостных.
Дружба Екатерины с французскими вольнодумцами не раз вызывала в России недовольство, особенно со стороны православных иерархов, но императрица умела находить аргументы в свою защиту.
Известна ее реакция на критику митрополита Платона, открыто осуждавшего переписку государыни с Вольтером:
Может ли быть что-нибудь невиннее письменных сношений с восьмидесятилетним стариком, который в сочинениях своих, читаемых всей Европой, старался прославить Россию, унизить ее врагов, удержать от враждебного проявления своих соотечественников, всегда готовых изливать всюду свою ядовитую ненависть против России и которых ему удавалось действительно сдерживать? С этой точки зрения я полагаю, что письма, писанные к атеисту, не нанесли ущерба ни церкви, ни отечеству.
Что касается «ядовитой ненависти», то речь здесь идет о французском правительстве – яром противнике и Вольтера, и Екатерины.
Французский историк Альфред Рамбо по этому поводу пишет:
Все ее неприятности приходили к ней из Версаля, все ее утешения – из Парижа. Существуют две Франции, из которых одна является ее врагом, другая – союзником. Ее переписка с философами часто будет носить следы злопамятства против министерства.
Опыт «самолюбия» и самокритики
Читать екатерининскую прозу – а императрица была одним из самых плодовитых российских писателей своего времени – не менее поучительно, чем ее письма или законопроекты. Даже в сказках Екатерины II обнаруживаешь философию, тесно связанную с реальной политикой русской государыни.
Одна из таких сказок-притч, озаглавленная «Опыт самолюбия», рассказывает, например, о человеке, слепо влюбленном во все свое. Ему казался великолепным и старый дом, вросший в землю, «с наклонностью к падению», и жена-брюзга, и лошадь с бельмом на глазу, – «одним словом, все, что ему принадлежало: мамы, няни, бани, веники, собаки, огород, пиво, полпиво, повар – все ему казалось отменными качествами снабдено для того только, что ему принадлежало, и любил он себя и никого иного».
Карикатура на примитивный, доведенный до полного абсурда русский патриотизм, справедливо называемый в народе в насмешку квасным или ура-патриотизмом, столь узнаваема, что следует отдать должное писательнице. При этом фрагмент написан настолько эмоционально, что становится очевидным: в реальной жизни, в политической практике Екатерине пришлось не раз сталкиваться с подобными личностями.
Но тут же рядом, всего страницей ниже, уже новая притча о русском купце, который, наглядевшись на голландцев в Архангельске, «вздумал дочь воспитать на иностранный образец, для чего и отдал ее в какой-то пенсион, где обертки с две ума она получила». Мораль и здесь очевидна: живи своим умом, не гонись за модой, если уж берешь что у иностранцев, то бери с толком, а не всё подряд.
Собственно говоря, ничего нового, придуманного самой Екатериной, в такой философии нет. Все это петровские заповеди, и именно им она пыталась следовать в своей внутренней политике. К опыту самолюбия императрица предлагала своим подданным присоединить опыт самокритики.