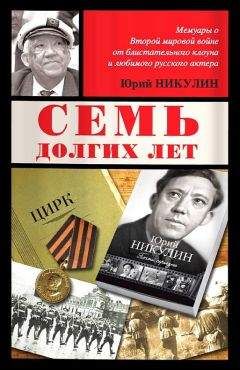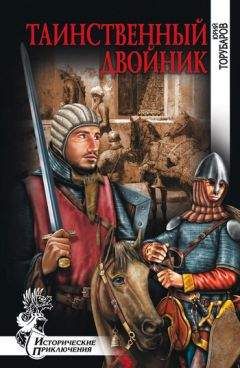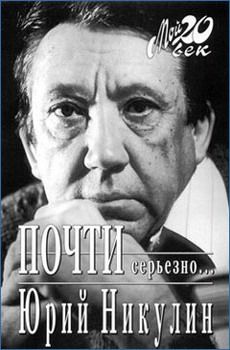Юрий Назаров - Только не о кино
Прошел первый дождь. Может, даже дожди. Не помню точно. Помню только, что это благодатное явление природы работу нам опять сорвало. Весь день мы самоистязались табачным дымом и преферансом. Часам к 4–5 пополудни, вконец разбитый и измученный, проигравшийся, «с досадой тайною обманутых надежд» отыграться, вылез я наконец на улицу. Вылез и… и не смог уже ни переживать по поводу своих недавних неудач, ни идти к себе на квартиру. Не смог даже на секунду зачем-то зайти в дом. Не смог!
Прошел дождь. Над головой еще бежали охвостья дождевой тучи, догоняли главные свои силы, ушедшие мрачным, темным, но теперь уже не страшным стадом куда-то за Тимошкино, на восток, а из-под этих остатков облаков ударило уже сваливающееся к закату, но все еще сильное и яркое солнце. Но главное — был воздух! Он был настолько вкусен, настолько свеж, столько в нем, как в сказочной живой воде, казалось, таилось силы и какой-то звенящей бодрости! В сказках эту воду отпускают склянками, кувшинами, с колоссальными трудностями и причем только самым наиизбраннейшим, а здесь — бесплатно, кому угодно, стена, целый океан! Не мог, не мог я даже на краткий миг оторваться (чтоб зайти зачем-то в дом) от этого живительного, могучего, целебного океана! И я пошел. Пошел, куда понесли меня ноги.
А понесли они меня за деревню, на бугор, и дальше вниз, с горы, в долину, к Истре, и через Истру, через «лаву», и куда-то без тропинки, без дороги в лес, в густые подводные заросли этого волшебного океана.
Как-то по радио я слышал передачу про Сицилию: «Солнечный остров!» «В Сицилии поют все…» — и я вдруг понял, как это возможно, чтоб «все пели»: чистый, просторный воздух, солнце, сверкающиее море, сверкающие звезды. И всегда чистый, свежий, певучий воздух! Там невозможно не петь. Я это вдруг ощутил, понял. Я это представляю себе. Вот такой же певучий воздух стоял после дождя в этом подмосковном лесу. Не петь было невозможно. Я шел и пел. Увертывался от капающих с веток и иголок за шиворот капель — и пел. Перепрыгивал через ямы, канавы, огибал лужи — и опять пел. Пел, пел и пел.
Наконец, напевшись, нажравшись (извините за выражение, но иного не могу применить), именно «нажравшись» последождевого воздуха и сделав порядочную петлю по лесу, выбрался я обратно к Истре и к «лаве». Посвежело, попрохладнело. Солнце садилось. Я взошел на мостик, на «лаву» эту, и остановился. По Истре и низкому болотистому прибрежью, по кустам ивняка валил на меня низкий туман, над ним холодала и гасла заря, а надо всем этим — хирургически чистая, сверкающая, холодная голубизна апрельского вечернего неба.
Я не помню, сколько я стоял. Жалко, невозможно было уходить. Казалось что оставишь, потеряешь что-то такое, чего больше уже никогда жизнь не подарит тебе. Да если и подарит даже — все равно нельзя такой роскошью раскидываться! Нельзя было уходить.
И я стоял.
За лесом, в трех километрах, как я уже говорил, большая деревня, Степаньково, что ли, шоссе, приходят автобусы, какая-то больница, что-то вроде фабрики — в общем, там уже пахнет городом.
И вдруг, откуда-то оттуда, из той (а может, не совсем из той) стороны, откуда-то сбоку, из лесу до меня долетели обрывки чистого (опять «чистого»! но что поделаешь, если после этого дождя все было чистым: и небо, и воздух, и голос, и мысли?), — долетели до меня обрывки чистого, как выполосканного дождем, правильного, очень светлого, очень приятного женского голоса: «… о-ождь по асфальту… коо-ю струи-ит на Фонтанке и до-ождь на Неве…»
Откуда это? Очень здорово поет! И очень к месту! Неужели из Степанькова слышно? (Что это радио, я ни секунды не сомневался, но откуда?). Нет, Степаньково все-таки далеко, все-таки три километра… А может, оттуда? Орет где-нибудь над автобусной остановкой репродуктор на столбе, а по вечернему воздуху и доносится… А может, кто-нибудь с транзистором по лесу гуляет?.. Близко где-нибудь… Все-таки три километра, пожалуй, трудно преодолеть, даже репродуктору. Так я гадал, стоя на мостках над Истрой и туманом, а голос все прорывался ко мне. Сперва только на самых высоких своих нотах, а потом полнее, целиком: «Д-ождь по ас-фааль-ту ре-коо-ю стру-и-ит-ся, до-ождь на Фон-таан-ке и доождь на Не-вее… Ви-жу род-ныы-е и мокрые ли-ца, га-а-лу-бо-глазые в боль-шин-ствее!.. Га-а-лу-бо-глаазые в боль-шин-стве».
Ай, как славно! Как хорошо вливается, вплетается песня органичнейшей, неотделимой, необходимейшей частью в эту тихую, светлую, но такую пронзительную и восторженную гармонию последождевого апрельского вечера!.. Будто только ее тут и не хватало…
…А она все всплывает и всплывает, песня-то! Из лесу. Все прыгает и прыгает по своим ленинградско-музыкальным камешкам, все струится и струится, как дождь по асфальту, и по Фонтанке, и по Неве… И все непонятно откуда!
И вдруг пропала. Нету. Тихо. Жду, ловлю ухом — нет.
Потом из лесу деловито вышла девчонка, девушка, лет 20–22, некрасивая, ширококостная, в каком-то сиреневом пальто. Очень тщательно перебралась по жердям через мокрое заболоченное место перед берегом, вышла к берегу, спустилась на «лаву», прошла мимо меня, сурово, не глядя, поднялась на другой берег и пошла к деревне, почти скрываясь в уже потемневшей долине. И скоро до меня опять долетело: «До-ождь по асфальту рекою струится…», уже отсюда, из нашей долины перед Тимошкином, которою шла сейчас девушка. А я все стоял…
Когда она вышла из лесу, я сразу понял, что это она, она пела (в этот вечер и на этом воздухе нельзя было не петь). И когда она проходила мимо меня по мостику, я уже знал это. И остался стоять. А она уже поднималась к деревне, и песня опять долетала до меня теперь только на самых высоких своих местах…
Нельзя сказать, чтоб мне так уж непременно хотелось бежать за ней, что-то предпринимать, заговаривать, заводить знакомство, гнаться за чем-то, что могло бы стать хоть каким-то, не развитием, продолжением сюжета. Нельзя сказать, чтоб я пожалел: ах, мол, дурак, рано женился, гулять бы еще да гулять. Нет, ничего этого не было. Просто мне подумалось: «Ах, если б можно было начать жизнь сначала!..»
Тут же я вспомнил, что обычно под этим восклицанием подразумевают, ну, какое-то исправление, что ли, уже имеющейся жизни. Нет. Мне не хотелось ничего «исправлять», все было правильно, все было нормально в моей «имеющейся», сегодняшней жизни. Просто мне вдруг страстно захотелось иметь в запасе еще миллион жизней! Чтоб снова ничего не знать, снова ошибаться, разбивать морду в кровь, кусать губы или даже плакать от обиды, но и снова иметь право заговорить с девчонкой на мосту, побежать за песней. Снова впервые влюбиться (не просто снова влюбиться, а снова впервые влюбиться)! Снова мучиться, страдать, делать миллионы глупостей, ругать, презирать себя, считать ни на что не способным, рохлей, неудачником, разувериться вконец в какой-нибудь возможности для себя счастья, когда ОНА, почему-то, совершенно непонятно почему — вдруг перестает с тобой здороваться, вдруг, оказывается, любит другого, вдруг выходит замуж за другого. И вдруг снова впервые узнать, что ты, оказывается, тоже любим! Что она (пусть уже другая «она», но все равно она!), она, оказывается, о тебе мечтала, оказывается, в ее глазах ты был Гайаватой! Мартином Иденом! Черт-те еще кем! И для чего ты срочно (опять впервые!) читаешь и «Песнь о Гайавате», и «Мартина Идена», чтобы хоть иметь представление, откуда же ты, сам ты, робкий, глупый и неудачливый, как казалось, а на самом деле такой необыкновенный (не может же ОНА ошибаться!), откуда же ты, такой необыкновенный и загадочный взялся, получился.
Нет, для этого и двух, и десяти, и пятнадцати жизней мало. Нужен миллион. Бесконечность! Это никогда не может наскучить.
Ах, если б можно было сначала!..
Примечания
1
В Англии, я слыхал, к 200-летию A.C. Пушкина кто-то полистал его да и изумился: «Послушайте! У вас же Пушкин еще в начале XIX в. говорил о ваших сегодняшних проблемах умнее всех ваших нынешних политиков!»
2
Все это вовсе не значит, что Солженицын с Сахаровым представляются мне безгрешными и всеправедными апостолами и пророками. Александр Исаич — замечательный писатель (меня особенно впечатлил «Случай на станции Кречетовка», но его озверелый, оголтелый антикоммунизм, извините, работает на программу… А.У Даллеса: чтобы произошла «трагедия гибели самого непокорного на земле народа», «мы будем вырывать духовные корни большевизма, опошлять и уничтожать основы народной нравственности»(!). А Андрей Дмитриевич — гениальный физик и очень примитивный, заБОННЕРизованный политик. Разговор не о них, а о нас, о нашей потрясающей способности моментально переходить без каких-либо усилий, сомнений, робких возражений совести от восторгов и воспеваний к возмущениям и проклятиям и — наоборот.