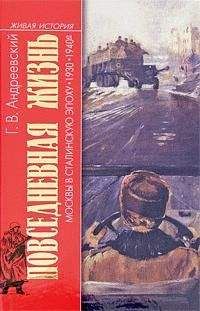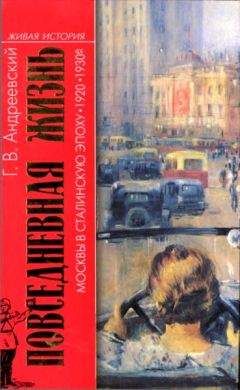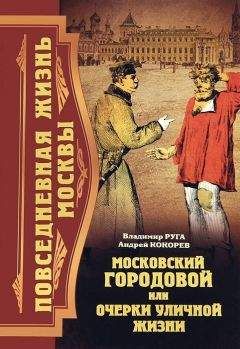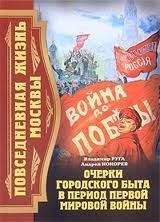Георгий Андреевский - Повседневная жизнь Москвы на рубеже XIX—XX веков
Как далеки всё это свинство, вся эта дикость от нормальной человеческой жизни, той жизни, в которой дети составляют главную радость и надежду. Какая пропасть отделяла российскую действительность от того, о чём сообщал Антон Павлович Чехов в письме брату Александру. «Дети, — писал он, — святы и чисты. Даже у разбойников и крокодилов они состоят в ангельском чине. Сами мы можем лезть в какую угодно яму, но их должны окутывать в атмосферу, приличную их чину. Нельзя безнаказанно похабничать в их присутствии».
Жизнь Хитрова рынка являлась прямой противоположностью тому, о чем говорил наш великий писатель. Здесь все вещи называли своими именами, а самыми интимными делами занимались публично. В «номерах», как назывались там все платные ночлежки, взрослые жили вместе с детьми. В случае надобности кавалеры приглашали своих дам под нары. Существовали там и номера, специально предназначенные для любовных свиданий. Посещая этот «Сад любви», мужчина платил за место на нарах с женщиной 12 копеек, а за место под нарами — 6. На нарах помещалось десять парочек. А рядом, в хозяйской каморке, дети, вернувшиеся из школы, учили уроки, старуха в углу читала Евангелие, на столе горела керосиновая лампа и теплилась перед киотом лампада.
Не везде, конечно, положение детей было так ужасно, как в мастерской, о которой шла речь выше. Однако и в более-менее нормальных заведениях условия жизни девочек и мальчиков нормальными не назовёшь. В портновской мастерской на 3-й Мещанской улице, состоявшей из одной комнаты, работали 17 подмастерьев и пять учеников. Здесь же находилась плита, на которой варился обед. Когда топили печь, в комнате становилось жарко, как в парной. В другой такой же мастерской неподалёку, на 1-й Мещанской, девочки 11–13 лет работали, как и в первой, с шести утра до десяти вечера, ну а перед праздником вообще до двух ночи. И это на скудной пище, в духоте, сырости и угаре от тяжёлых чугунных утюгов, нагреваемых углями. Если кто думает, что положение учениц и девушек-подмастерьев с годами значительно улучшилось, — тот ошибается. В 1912 году ученицы, проработавшие в мастерской бесплатно четыре года, получали по 2–3 рубля в месяц. Кормили их эти годы тем, что оставалось после портних, при этом кухарка руками сгребала объедки в общую миску учениц.
В конце XIX века детям в приютах тоже жилось несладко. «Дадут в булочной савотейку[40] — и сыт», — говорил мальчик из приюта и рассказывал, как его били, заставляли работать по 15 часов, как он спал в грязи. Даже девочек в приюте могли привязать к кровати или поставить им горчичник на руки. Даже в более позднее время, в начале второго десятилетия XX века, в Александро-Марьинском училище для сирот воспитатели и воспитательницы, а также мастерицы ремесленных классов пользовались учениками и ученицами как бесплатной прислугой. Маленькие дети убирали комнаты, таскали из кухни в столовую пищу в обед и ужин, разогревали самовары. Мальчики, кроме того, бегали в лавки за покупками. По вечерам дети оставались без присмотра и летом нередко, если не постоянно, гуляли по двору и саду до 12 часов ночи. В отделении, где жили девочки, комнаты воспитательниц находились рядом с их спальнями. Воспитательницы нередко приглашали к себе на чай воспитателей и учителей и болтали с ними целые ночи, мешая детям спать. Зато утром, когда детей нужно было вести на молитву, няньки и дядьки по несколько раз ходили будить дежурных воспитателей и воспитательниц, и получалось это у них не всегда. Зато после утреннего чая и обеда последние считали своим святым долгом по часу, как это и предусмотрено инструкцией, отдыхать, забыв о воспитанниках и воспитанницах.
А ведь все эти дети через несколько лет должны были стать взрослыми людьми и понять, почувствовать, что мир, в который они попали, равнодушен, а то и враждебен им, раз он мог их так обижать, когда они были малы и беззащитны. Как же после всего этого они могли относиться к людям?
Школьные годыЖили в Москве и другие дети. Их вывозили летом на дачи, на Рождество в окнах их домов и квартир на наряженных ёлках загорались свечи. Эти дети учились в гимназиях и у них были красивые игрушки. В общем, у них было детство, память о котором согревает человека в самые трудные времена.
На барахолке у станции «Удельная» под Петербургом мне как-то попался дневник, а вернее, тетрадочка, на обложке которой было написано «Володя» — в ней мать вела записи о своём сыне, Володе. Вот некоторые из этих записей:
«19.02.1911. …вчера я задала Володе пример на сложение до 10 и он живо принёс ответ, совершенно верно решив, а сегодня при мне ничего не мог сделать, оказалось, что Воля (товарищ Володи. — Г. А) ему помог и оба они наврали, говоря, что Володя решил пример сам. А сегодня сунули шпильку в штепсель, произошёл взрыв, и провода перегорели. Сегодня — это просто шалость, а вчерашнее уже дурной поступок, за что я оставлю их без сладкого… Володя стал ужасным сорванцом и шалуном. Он скачет, пляшет, поёт, гримасничает, то прекрасно играет с Зоей (сестрой. — Г. А), то дразнит её… На ёлке я ему подарила большого мишку, и он всегда с ним спит. У него целая медвежья семья, три мишки. Для них он сделал сам кровать, мебель, накрыл стол, поставил на него ёлочку и вокруг на стульях медведей… Недавно Володя с Зоей пришли ко мне спрашивать, можно ли им жениться. Когда Володя узнал, что нельзя, то заявил, что не хочет жениться, то есть не хочет иметь детей, а лучше будет жить с Зоей… Володя принят в приготовительный класс гимназии… пошёл в гимназию и для первого дебюта забыл там полученные книги. Был этим очень сконфужен. Он очень рад, что поступил в гимназию… Познакомился через окно с девочкой в доме напротив и друг другу показывают игрушки… Мама как-то ему говорила, что учитель замечает, кто шалит и наматывает себе на ус, а он на это пресерьёзно заметил: „Хорошо, что у нашего учителя усы маленькие — много не намотает“… Мы были у Володи в гимназии на ёлке, и Володя заявил, что они, то есть гимназисты-приготовишки, выбирали себе жён среди девочек, про себя он умолчал, его, кажется, больше солдатики и машины увлекают. Солдат у него 75 штук… Перешёл в третий класс… Показывал волшебный фонарь два дня подряд. В детской собрались прислуги, немой (дворник. — Г. А) и ребятишки, а в моей спальне были приготовлены места для „интеллигенции“. Стояли мягкие кресла и стулья. Мы сидели тихо, а на простой половине хохотали немой, Фёкла (кухарка. — Г. А) и громче всех сам Володя… как-то он меня спросил, знала ли Катя Прозорова своего отца, я ответила, что нет, так как она родилась после его смерти, а Володя на это очень серьёзно спросил: „А разве у вдов бывают дети?“ (тогда уже шла война с Германией)».
В детстве все мы любили читать книжки про детей, смотреть спектакли и кинофильмы про наших ровесников. В этом нет ничего удивительного, ведь это был наш мир и на место его героев мы могли поставить себя, чего не удавалось сделать, когда герой произведения был взрослым. К тому же всякие любовные истории, которыми так полны сочинения для взрослых, нам казались лишними. Большой интерес вызывали у нас также рассказы пожилых людей о своём детстве и о детстве наших родителей. Невероятно, но наши папы, мамы, дедушки и бабушки были такими же, как мы, маленькими. Один такой рассказ я услышал от брата моего отца, дяди Мити. В нём он поведал мне о гимназических годах «мирного времени». Вот что он рассказал: «Во время гимназических каникул отец водил нас в театры, главным образом в оперные: Большой и Зимина (теперь там Театр оперетты). В Большом театре мы сидели обычно в первом или четвёртом ряду. Полюбил я симфоническую музыку после того, как услышал концерт Мендельсона для скрипки с оркестром в исполнении симфонического оркестра латышских стрелков. Стал учиться играть на скрипке. В гимназии[41] у нас был оркестр. Я играл на мандолине, а Василий (мой отец. — Г. А) — на балалайке. Собирались в гимназии или у нас дома. Языки мы учили с детства. Бабушка разговаривала с нами иногда по-французски. В первом классе мы изучали церковно-славянский[42] и немецкий, со второго класса стали изучать французский, в третьем — латинский и древнегреческий, а с четвёртого — греческий. Французский, немецкий и латинской учили до конца гимназии.
Семья наша не была религиозной. Ни мать, ни бабушка в Бога не верили. Правда, на религиозные праздники к нам приезжали попы. Бабушка называла попов „длинноволосыми“. Однако в гимназии мы изучали Закон Божий. Я в гимназии был отличником, а Василий учился хорошо, но имел разные отметки. Мы были обязаны говеть на Страстной неделе, то есть последнюю неделю перед Пасхой. Эту неделю мы были обязаны ходить каждый день в церковь молиться, а в среду — исповедоваться. В четверг — причащаться. После причащения все шли к „тепловому“, то есть к разведённому в тёплой воде сладкому вину, его пили уже чашкой. Гимназисты его любили. Поп давал лжицу (ложку) кагора, всем одной ложкой, и кусочек просфоры. Раньше от такой некультурности гибло много людей. Когда начиналась чума или холера все шли к иконе Иверской Божьей Матери и целовали её, заражая друг друга. Молитвы мы знали с детства. Когда поступали в гимназию, то на приёмных экзаменах спрашивали молитвы. Когда у нас был урок Закона Божьего, то учеников-иноверцев: поляков, немцев — освобождали от урока. Для них были специальные уроки. У немцев Закон Божий преподавал пастор, а у поляков — ксёндз. Пастор ходил в гражданской одежде, а ксёндз — в сутане, причём в гимназию он приезжал на дамском велосипеде, так как сутана была длинная. Был он толстый, на шее носил чётки. Евреи занимались Законом Божьим частным образом при синагоге. При гимназии была домовая церковь».