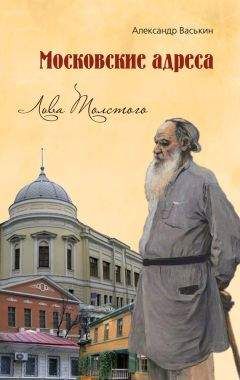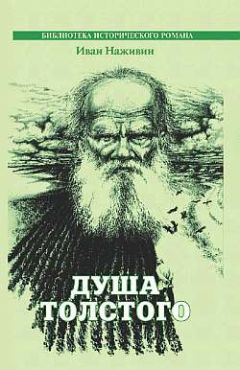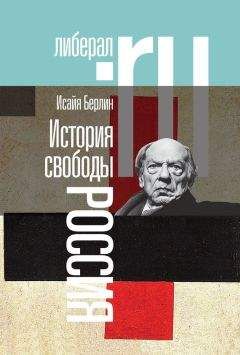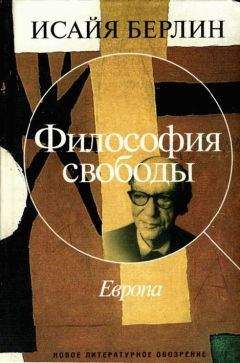Александр Николюкин - Литературоведческий журнал № 27: К 100-летию ухода Л.Н. Толстого
(2) духовные блага российской цивилизационной идентичности выражаются преданностью воле Бога, благорасположением к людям, смирением, покорностью, терпением, серьезностью мысли, бесстрашием смерти, добротой, самоотверженностью;
(3) нравственную деятельность русского человека, заключающуюся в увеличении в людях любви делами, словами, убеждением, и нравственность, проявляющуюся в понимании свободы от соблазнов, любви к Богу, Истине, Добру, Ближнему;
(4) социальные ориентиры, представленные понятиями свободы – несвободы – освобождения; демократии управления, реализующейся в самоуправлении; с отношением к власти и гражданской позицией подвластных; осмысленные сквозь призму деспотизма и насилия, земли-собственности – значения земледельческого труда в России, общественного обустройства России, общественного прогресса и безопасности российского общества.
ТРАДИЦИИ «МЕТЕЛЬНОГО ХРОНОТОПА» В ПРОЗЕ ТОЛСТОГО
Л.Н. Толстой как-то заметил: «Просейте мировую прозу – останется Диккенс, просейте Диккенса – останется “Дэвид Копперфильд”, просейте “Копперфильда” – останется описание бури на море». Судя по этому замечанию, Толстой имел в виду главу LV романа Диккенса («Буря») – именно этот фрагмент, по его разумению, оказывается подлинным шедевром мировой прозы.
Но почему?
Среди произведений молодого Толстого несколько особняком стоит один рассказ, опубликованный в середине 1850-х годов и уже с самого начала, отметил Б.М. Эйхенбаум, «возбудил недоумение среди критиков»1. По нашему мнению, этот толстовский рассказ, который, казалось бы, оказывается рассказом «ни о чем» и непонятно по какому поводу создававшимся, является аллюзией на указанное диккенсовское «описание бури» и может быть адекватно понят и оценен только в сравнении с ним.
Появление рассказа «Метель» (в мартовской книжке «Современника» на 1856 г.) знаменовало начало нового литературного периода в эволюции Льва Толстого. Только предыдущую свою публикацию – рассказ «Севастополь в августе 1855 года», появившийся в первой книжке «Современника» на 1856 г. – Толстой наконец подписал полным именем, и таким образом «раскрыл» инициалы для большинства читателей. Третий «севастопольский» очерк, соотносившийся с двумя предыдущими, демонстрировал Толстого как «военного» писателя – здесь же наконец возникла вполне «мирная» тема. Причем «мирный» сюжет о блуждании героя ночью по степи с мужицким обозом, странным образом разработанный в этом рассказе, получал как будто «зловещие» очертания.
И сам Толстой, находившийся на взлете своей литературной известности, кажется, испытывал некоторое «недоумение». В основу рассказа был положен случай, происшедший два года назад, на пути с Кавказа в Ясную Поляну. «Ровно две недели был в дороге, – записал он в дневнике. – Поразительного случилось со мною только метель»2. Эта «поразившая» молодого Толстого метель случилась 24 января 1854 г. в 100 верстах от Новочеркасска, у станицы Белогородцевской, вероятно, именно тогда был задуман рассказ.
Два года Толстой его «вынашивал» и начал писать только в конце января 1856 г. Написал же сравнительно быстро: под печатным текстом стоит дата: «11 февраля». На другой день он читал рассказ в редакции «Современника»: слушатели остались «очень довольны» (XLVII, 67). Это и понятно: как же еще редакция могла относиться к новому произведению «башибузука Толстого» (выражение Дружинина), который входил в литературную моду и к тому же в те самые дни заключал «обязательное соглашение» об исключительном сотрудничестве в «Современнике»!3 На этом авторском чтении рассказа, вероятно, присутствовал и Тургенев, который 27 февраля (еще до выхода мартовской книжки журнала) назвал его «превосходным» и рекомендовал в письме к С.Т. Аксакову, известному «первооткрывателю» описания степного бурана в русской литературе4.
Отзыв старика Аксакова (в письме к Тургеневу от 12 марта) был тоже, в общем, положительным: «Скажите, пожалуйста, графу Толстому, что “Метель” – превосходный рассказ. Я могу об этом судить лучше многих: не один раз испытал я ужас зимних буранов и однажды потому только остался жив, что попал на стог сена и в нем ночевал». Дальше Аксаков, однако, не удержался и добавил, что в рассказе «подробностей слишком много; однообразие их несколько утомительно»5. Последний упрек исходил, скорее всего, не столько от самого Сергея Тимофеевича Аксакова, сколько от его старшего сына Константина, который в то время работал над статьей о современной литературе. Высоко оценивая талант графа Толстого, он, однако, упрекал его в излишне «анализаторском» и «микроскопическом взгляде» на предметы: «Перед вами стакан чистой воды, вы увеличиваете ее в микроскоп; перед вами море, наполненное инфузориями, целый особый мир; но если вы усвоите себе это созерцание, то впадете в совершенную ошибку, и перед вами исчезнет вид настоящей воды <…> Итак, вот опасность анализа; он, увеличивая микроскопом, со всею верностью, мелочи душевного мира, представляет их, по тому самому, в должном виде, ибо в несоразмерной величине»6.
Между тем молодой Толстой как раз и настаивал на литературном отображении «подробностей чувства» (XLVI, 188), составляющем основу читательского интереса. В этом интересе к «подробностям» он, по своей литературной устремленности, вполне соответствовал направленности диккенсовской романистики и, в частности, «Дэвиду Копперфильду».
По своему содержанию понравившийся Толстому диккенсовский фрагмент «описания бури» представляет собой ряд последовательных описаний природного катаклизма, данных в восприятии героя, находящегося неподалеку от него, в относительной безопасности. Здесь представлен ряд сменяющих друг друга описаний бушующего моря. То ночью, при самом начале бури: «Приближалась ночь, облака сгустились, раскинувшись по всему небу, теперь уже совсем черному, а ветер все крепчал…» и т.д. То на рассвете, когда буря уже разыгралась: «Катились и катились гигантские валы и, достигнув предельной высоты, рушились с такой силой, что, казалось, прибой поглотит город. С чудовищным ревом отпрядывали волны, вырывая в береге глубокие пещеры, словно для того, чтобы взорвать сушу…» и т.д. То посреди дня, в самый разгар катаклизма: «Но море, бушевавшее еще одну ночь, было неизмеримо страшнее, чем тогда, когда я видел его в прошлый раз. Казалось, будто оно чудовищно разбухло, неимоверной высоты валы вскидывались, перекатывались друг через друга без конца и без края, как неисчислимая рать, наступали на берег и рушились со страшной силой» и т.д. Диккенсовские описания детальны, эмоциональны, несколько метафоричны, их цель – достичь именно точности в деталях описания исключительного природного явления.
В толстовской «Метели» налицо та же установка. Не ограничиваясь общими указаниями на «мрак», «вихорь», «хлопья снега», Толстой, в отличие от своих предшественников, занят именно частностями: подробной фиксацией разных «метельных» фаз. Казалось бы, что здесь особенно «описывать» – снег, ветер, «белое безмолвие»; точно так же, как у Диккенса: ветер, разбушевавшаяся вода, валы. Но Толстой упорно фиксирует все детали меняющейся стихии, которые и организуют все повествование. Вот самое начало катаклизма: «…дорога стала тяжелее и засыпаннее, ветер сильнее стал дуть мне в левую сторону, заносить вбок хвосты и гривы лошадей и упрямо поднимать и относить снег, разрываемый полозьями и копытами» (III, 118). Дальше – описания снега, данные на показательных опорных деталях: «Снег засыпал скрипучие колеса, из которых некоторые не вертелись даже» (III, 124), «снег шел сухой и мелкий», «со всех сторон были белые косые линии падающего снега» (III, 125), «мы ехали, не останавливаясь, по белой пустыне, в холодном, прозрачном и колеблющемся свете метели» (III, 127) и т.д.
Наконец, «рассыпанные» детали соединяются, как и у Диккенса, в цельное описание, демонстрирующее образ метельного напряжения: «Посмотришь вниз – тот же сыпучий снег разрывают полозья, и ветер упорно поднимает и уносит все в одну сторону. Впереди, на одном же расстоянии, убегают передовые тройки; справа, слева все белеет и мерещится. Напрасно глаз ищет нового предмета: ни столба, ни стога, ни забора – ничего не видно. Везде все бело и подвижно…» (III, 128) и т.д. Эти «белые» данности рождают ощущение «незнаемости» мира: застигнутый метелью путник действительно как будто попадает в иное измерение: вдалеке от людского жилья, без привычной обстановки в «колеблющемся снегу» (III, 135). «Действительно, страшно было видеть, что метель и мороз все усиливаются, лошади слабеют, дорога становится хуже, и мы решительно не знаем, где мы и куда ехать, не только на станцию, но к какому-нибудь приюту, – и смешно и странно слышать, что колокольчик звенит так непринужденно и весело…» (III, 136) Функциональное «задание» толстовских описаний то же, что у Диккенса.