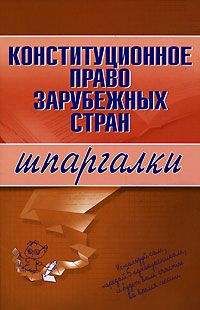Владимир Тендряков - Собрание сочинений. Т. 1. Повести
Пять домов, прижатых лесом к шумящей на порогах реке, — маленький кусочек необъятного мира. Здесь трудятся люди, и труд их тяжел, но крохотный поселок напротив Большой Головы — все-таки по-своему счастливый край. Угрюмоватый, неразговорчивый человек, ходящий по поселку с легкой раскачкой, — законодатель этого края.
У себя в конторе он разложил на столе размокшие документы незнакомца. Какие-то справки превратились в пригоршню бумажной каши. Паспорт сохранился лучше. Паспорт есть — значит, его хозяин ходит под законом.
Концом ножа Дубинин осторожно расклеил слипшиеся листки паспорта, прочитал: «Бушуев Николай Петрович, год рождения 1919». Паспорт, похоже, новый, в графе восьмой-«На основании каких документов выдан паспорт» — поставлен номер справки Гулага. Нетрудно догадаться — хозяин судился, отбыл положенный срок.
На чужой койке, среди чужих людей, во всем облике усталое оцепенение — ускользнул от смерти… Должно быть, путаная и неуютная жизнь за спиной у этого человека. Где-то в молодые годы хотел, видать, ухватить счастье — грошовое, такое, что можно купить за десятку. Потянулся в чужой карман за этой десяткой, схватили за руку, сволокли, куда надо. Пусть даже простили по первому разу, но счастья-то нет, надо искать. Искал… Шли годы, и не было счастья…
8Утром, после того как рабочие разъехались, Дубинин заглянул в общежитие. Койка, на которой спал незваный гость, была заправлена.
«Живуч. Уже сорвался. Не отправился ли дальше блукать? Но паспорт-то у меня, без документов не сорвется…» Дубинин не спеша направился к себе.
Дом, где находилась контора, был единственным двухэтажным домом на участке. Внизу — контора и комната, где жил моторист Тихон Мазаев с женой Настей, уборщицей в общежитии. Вверху — красный уголок, где стоял приемник, полка с книгами и стол, накрытый вылинявшим кумачом. Здесь по вечерам собирались сплавщики, слушали радио и стучали костяшками домино.
Проходя мимо лестницы, ведущей в красный уголок, Дубинин услышал мужской голос, певший негромко под гитару:
Почему у одних жизнь прекрасна
И полна упоительных грез,
У других она просто ужасна,
Много горя, отчаянья, слез…
Дубинин поднялся. В чистой рубахе, с чьих-то чужих широких плеч — тощая шея жалко высовывается из просторного воротника, — по-прежнему небрит, сидел он, придерживая на коленях гитару, которая уже много лет без дела висела над приемником.
Почему же одним удается
Обойти все удары судьбы…
При виде мастера проворно вскочил на ноги.
— Здравия желаю, начальничек, — с наигранной развязностью поприветствовал он.
Лицо узкое, взгляд ускользающий, при улыбке в мелких плотных зубах видна щербатинка.
Дубинин опустился на стул.
— Садись, как там тебя… Николай Бушуев. Поговорим.
— Верно, Николай Петрович Бушуев собственной персоной. Хотел ниже, в Торменьгу податься, да вот к вам попал. Прошу прощенья, не предупредил, чтоб встретили…
— Брось дурочку ломать. Откуда к нам пожаловал?
— В лесопункте работал…
— И сбежал?..
— Начальник там — сволочь. За человека, видишь ли, не считал. Ты, мол, после отсидки, уголовный элемент, жулье, отбросы. Не сошлись мы с ним характерами.
— Уж так-таки дело в характерах?
— Вдруг да из-за этого гада пришлось бы обратно поворачивать. Подальше от греха… Рублей двести было заработанных, и те не взял…
— За что сидел?
— Говорят, за дело. Да я и не отказываюсь: за дело так за дело.
— По мокрому?
— Упаси бог.
— За воровство?
— Не будем уточнять, начальничек. Одно скажу: завязал.
— Ой ли?
— Верь не верь, а мне уж не двадцать лет. Что-то нет охотки дальше в казачки-разбойнички играть.
— А родом откуда? Почему в лесопункт нанялся, домой не поехал?
— У меня дом под шапкой. Где ее надел — там и дома.
— Уж и в родные края не тянет?
Светлые, со стеклянным блеском глаза Николая Бушуева прикрылись веками, на секунду бледное небритое лицо стало неподвижным, замкнутым, скучным. Случайный вопрос сбил наигранную веселость.
— Что толку? — ответил он, помедлив. — Знаю, как в родное место с пустой мошной приезжать.
— А я слышал: и там работают, с деньгами выходят.
— Шелестело чуток в кармане, да только в поезде с одним в картишки простучал…
Дубинин прочно сидел на стуле, в распахнутом пиджаке, в надвинутой низко кепке, со своим обычным угрюмоватым спокойствием разглядывал гостя.
— А куда теперь? — спросил он.
— Куда?.. В Торменьгу. Там на перевалочной базе работа найдется.
— Специальность имеешь?
— На все руки мастер: пни корчевал, ямы под фундаменты рыл, лес валил…
— Значит, нет специальности? — Дубинин пошевелился на стуле, отвернулся. — Вот что, — проговорил он в сторону, — можешь остаться у нас. Будешь работать, как все. Каждый сплавщик плохо-бедно в месяц тыщи две выколачивает. Ты без семьи, на питание да на одежду у тебя из заработка станет уходить рублей пятьсот от силы. За год накопишь тысяч пятнадцать-восемнадцать. Тогда — хошь у нас живи, хошь езжай на все четыре стороны. Тебя, дурака, жалеючи, говорю. Не хочешь — держать и упрашивать не будем.
— А чего ж не хотеть. У вас так у вас, мне все одно, где землю топтать.
Дубинин выкинул на стол короткую руку, сжал маленький, покрытый ржавым волосом, увесистый, как обкатанный рекой, голыш, кулак.
— Топтать? Нет, дружок, работать придется. Денежки-то за топтание не платят. Не надейся, на чужой хребтине не выедешь. Место у нас глухое, до милиции далеко, сами порядки устанавливаем. Ты видел наших ребят? Любому кости прощупают. И не убежишь — кругом леса да болота, местные жители глубоко-то не залезают. Три пути отсюда: в лесопункт, где, должно быть, тебя неласково встретят, в деревни, где любому в глаза бросишься, а вниз по реке через сплавучастки. Стоит мне позвонить, как тебя, голубчика, придержат до времени. Заруби на носу — лучше не шалить. Беру к себе не потому, что особо верю, а потому, что не опасаюсь — у нас не развернешься. Так-то, друг.
Дубинин поднялся.
9Николай Бушуев занял в общежитии койку Толи Ступнина. По утрам он с топором за поясом и багром в руке вместе с другими сплавщиками шагал к лодкам. Дубинин расспрашивал ребят: как работает? Пожимали плечами — ковыряется.
Лешка Малинкин спал рядом с Бушуевым, работал с ним в одном пикете. К человеку, который стал причиной значительного, даже героического, события в твоей жизни (шутка ли, спас от смерти!), нельзя относиться равнодушно. Лешка на работе старался быть рядом, учил, помогал, ворочал за слабосильного соседа по койке тяжелые кряжи.
Гитара, которая висела в красном уголке, — ее купили потому, что на культурно-массовое обслуживание были отпущены деньги, — теперь перекочевала в общежитие. И по вечерам Бушуев, развалясь на койке, пощипывая струны, пел о тоске в неволе, о любовных изменах, об убийствах из ревности.
Может, фраер в галстучке атласном
Тебя целует в губы у ворот…
Сплавщики были не слишком привередливы, если грустно — покачивали головами, казалось смешным — похохатывали, и в знак благодарности время от времени чья-нибудь тяжелая рука хлопала по плечу Бушуева.
— Сукин ты сын! И откуда набрался?..
Приходил послушать и Дубинин, присаживался, курил, молчал, но, кажется, молчал одобрительно.
Когда Бушуев откидывал в сторону надоевшую гитару, к ней робко тянулся Лешка. Он долго ерзал на койке, пристраиваясь поудобней, низко пригнув голову, начинал огрубевшими, негнущимися пальцами бережно пощипывать струны, но гитара издавала лишь робкие, бессвязные звуки. Лешка почтительно откладывал ее, шевелил плечами, простосердечно удивлялся:
— Гляди-ка, не работал — сидел, а спину ломит.
По-прежнему вечерами Генка Шамаев перегонял лодку на другой берег и исчезал в лесу. По-прежнему Егор Петухов, покопавшись в своем чемодане, замкнув его тяжелым замком, садился и начинал плаксиво рассуждать:
— Поживу здесь еще немного и брошу вас. Ковыряйтесь себе по берегам. Дом куплю в райцентре, огороды с парниками заведу, на всяк случай подыщу работку — не бей лежачего. Хоть, к примеру, ночным сторожем куда. Самое стариковское дело…
На него не обращали внимания или лениво прикрикивали:
— Завел… Хватит зудить-то!..
Как всегда, на воскресные дни сплавщики расходились по деревням. На участке становилось тоскливо. Бушуев коротал время с мотористом Тихоном Мазаевым. У Тихона всегда была припрятана на такой случай бутылочка.
Тихон — маленький, узкоплечий, на обветренном сморщенном лице вислый нос — никогда не был доволен. Сердитым голосом он ругал все — и погоду, и реку, и участок, на котором киснет в мотористах пятый год.