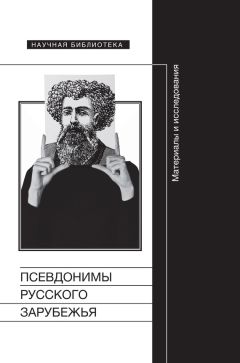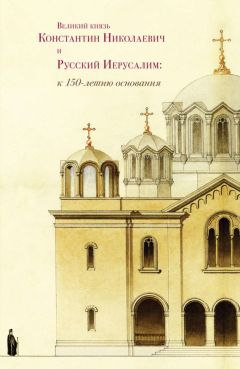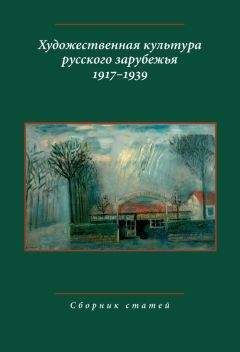Вольфганг Киссель - Беглые взгляды
Таким образом, разрушение смысла, мотивированное вначале пустотами во времени, находит соответствие в хронотопе непреодолимого пространства, которое, в отличие от лермонтовского, не определено границами (родина и чужбина — горизонталь, солнце и морское дно — вертикаль), но в качестве «пустого пространства» превращается в оксиморон границы бесконечности (протяжения), через которую нет дороги, ибо на Востоке вообще нет вожделенной цели. Переход непреодолимого пространства границы является не самоутверждением индивидуума в «буре», но обусловленным судьбой падением в пустоту.
Время и пространство как пустоты связываются в конце сравнением сердца с «бедным слюдяным окном». Превращение окна из источающего свет и могущего видеть «ока» в «бедную светом», слепую пустоту завершает потерю смысла и позволяет воспринимать следующие друг за другом определения «челнок», «птичья стая» и «сердце» (индивидуум) в качестве ипостасей того же самого неподвижного времени и исчезновения пространства. Лермонтовский субтекст служит здесь обратным отражением: там, где пространство и время выбиваются из колеи, где возвращение домой оказывается невозможным, граница достигает бесконечного пространства и выход в открытое море становится падением в никуда.
В мотиве «выхода» Терапиано обретает наконец выход из пространственной и временной пустоты бессонницы и пограничного состояния. Ночные бдения и невозможность перейти границу, поначалу обусловленные страданиями, постепенно получают позитивную переоценку в сборнике стихов «Странствие земное» (1951). Особенно ярко здесь проявляется лермонтовский мотив «выхода на дорогу», который подчеркивает связь ночного бодрствования и нахождения в дороге с новым измерением познания[642]. Нельзя не заметить интертекстуальную ссылку в первых строках, по крайней мере, трех стихотворений («Выйдем ночью на дорогу»; «Выйду в поле»; «Выхожу на дорогу с тобою»). Кроме того, в самих текстах «кремнистый лермонтовский путь» эксплицируется в качестве квазитопографического ориентира:
Выйду в поле. На шоссе все то же.
Изредка мелькнет велосипед.
Вновь такой же, со вчерашним схожий,
Вечер, полумрак и полусвет.
Фонари автомобилей, звезды,
Грусть о тех, которых не вернуть,
Тихий и прозрачный летний воздух
И кремнистый лермонтовский путь.
Снится мне, за грани туч прекрасных,
За ограды всех миров иных,
Музыкой таинственной и страстной
Ввысь летит дыхание земных,
И, росой вечерней ниспадая
На траву и пыльные кусты,
Хрупкой влагой, не достигнув рая,
Падает на землю с высоты[643].
Ночной выход имплицирует как у Лермонтова, так и у Терапиано поиск открытого пространства, самозабвения и покоя, устанавливает диалогическую связь между говорящим Я и вечностью, проявляющейся через определенную близость к природе. Терапиано берет различные мотивы ночных размышлений из стихотворения Лермонтова, но переиначивает их, подчеркнуто отказываясь от самопознания, свойственного лермонтовскому Я.
Первые две строфы демонстрируют бросающееся в глаза сходство, которое своеобразно варьирует возникающую у Лермонтова неподвижность времени: Лермонтов описывает внемлющую мирному дыханию Бога, синестетически воспринимаемую ночную природу, в которой блестящий кремнистый путь на земле и говорящие друг с другом звезды на небе дают ориентир лирическому Я. Кремнистому пути, блестящему в тумане, как первому непосредственному впечатлению у Терапиано соответствует мелькнувший вдали на улице велосипед; надежности дороги отвечает быстрота (беглость) движения. Последовательность фрагментарных впечатлений (велосипед, полусвет, фары автомобилей, звезды, печаль, летний воздух и кремнистый путь), и в особенности их углубление в аксиоматический контекст неизменности и однообразия, создает универсум, в котором взгляд саморефлексирующего Я становится излишним: эквивалентность звезд и автомобильных фар, вчерашнего и сегодняшнего вечеров, полусвета и полумрака порождает экзистенциональную печаль о невозвратности потерянного навсегда лишь как вариацию однообразного возвращения беглого и отказывает человеку в эгоцентристской модели мира.
Лермонтов приводит в созвучие самозабвение сна, наполняющего мирно дышащую грудь силами жизни, и всеобъемлющую любовь природы. Терапиано перенимает этот мотив дыхания и передает его в видении подымающегося в музыке дыхания «всех земных», падающего росой на землю, в идее вечного круговорота, в котором каждый человек сплавлен с другими, где ничто не исчезает и однообразие эквивалентности прошлого, настоящего и будущего оценивается положительно[644].
«Выход в поле» имплицирует освобождение не только от пространственной, но и от временной связанности, отказ от внешне манифестируемого возврата в пользу интеграции в космическое движение, благодаря которому прошлое и будущее, близкое и далекое в равной степени современны. В этом смысле обращение к лермонтовскому «кремнистому пути» можно рассматривать как ментальный мотив «все свое ношу с собой», пронизывающий творчество Терапиано: ничто не потеряно, все в наличии[645].
Этой вездесущностью прошлого, находящегося в перманентном движении, преодолевается «страдание» по отношению к неподвижной условности эмиграции: поэт превращается в носителя видений, преодолевающих пространство и время, провозвестником вневременного безграничного бытия:
Летом душно, летом жарко,
Летом пуст Париж, а я
Осчастливлен как подарком
Продолженьем бытия.
С мертвыми веду беседу,
Говорю о жизни им,
А весной опять уеду
В милый довоенный Крым.
И опять лучи, сияя,
Утром в окна льются к нам,
Море Черное гуляет,
Припадает к берегам.
И как будто время стало
Занавесочкой такой,
Что легко ее устало
Отвести одной рукой[646].
На этой последней ступени, где с помощью поэзии совершается движение Терапиано от неподвижности к вездесущности, оказывается несколько неоднородное художественное прозаическое произведение «Путешествие в неизвестный край». Основывается ли текст на действительно состоявшемся путешествии, остается не вполне ясным. Хотя в скупых биографических очерках о русском поэте и критике отсутствуют сведения, которые могли бы свидетельствовать о путешествии на Восток, соответствующие указания обнаруживаются в других источниках[647]. В своей известной монографии о маздеизме, появившейся в шестидесятых годах, Терапиано мотивирует это следующим образом:
L’origine de ce livre est la suivante: Lors de mon séjour en Orient, en 1920, un de mes amis, haut fonctionnaire de la Russie impériale en Perse, m’a communiqué les détails de ses entretiens avec les Mazdéens qu’il a pu rencontrer au cours de sa carrière, grâce à des circonstances exceptionnellement favorables. Je lui demandai pourquoi il n’écrirait pas un livre sur ce sujet. Il me répondit que cela ne lui était pas possible, parce qu’il ne possédait pas de dons d’écrivain, mais qu’il m’autorisait à écrire un livre basé sur ses récits. Selon son désir, son nom, son titre, et autres précisions, susceptibles de percer son incognito, ne seront pas mentionnés. Je dirai simplement que mon ami fut un grand spécialiste des questions de l’orientalisme; il connaissait plusieurs langues orientales et il passa plus de vingt ans en Orient…[648]
При описании религии маздеизма Терапиано ссылался на познания и сообщения третьего лица, причем бросается в глаза, что в изданном в сороковые годы описании путешествия совершившее его Я подобным же образом представлено в качестве некоего третьего[649].
Описание путешествия, которого не было, которое произошло «не так» или же очень давно, представляет собой особый случай травелога, словно с самого начала определяющегося специфической ситуацией эмиграции и кризиса культуры. Оно означает логическое продолжение пути духовного развития, обозначенного поэзией Терапиано, ибо в данном случае описание как таковое более походит на «духовное путешествие».
Духовное путешествие, духовное «странствование» как выход из физической и психической неподвижности представляет наибольший интерес, когда характер описания путешествия намеренно превращается в «текст-противоположность» относительно обычных туристических изображений. «К тому же, — пишет в самом начале рассказчик от первого лица, — и цель моего путешествия — отнюдь не путешествие с описанием климата, пейзажей, этнографических особенностей и тому подобного»[650]. Но если целью описания путешествия не является изображение обнаруженных чужеродных явлений, то оно становится интроспекцией, путешествием в себя самого. Единственное синоптическое описание «Путешествия в неизвестный край», предлагаемое критической литературой, характеризует книгу Терапиано как «краткое, значительное, отчасти сюрреалистическое изображение доисторических состояний человечества, которые еще определялись единством с божественным космическим велением»[651] и допускает небрежность, ошибочно приняв за метод существенный здесь аспект путешествия как модуса духовного самоуглубления и самосовершенствования.