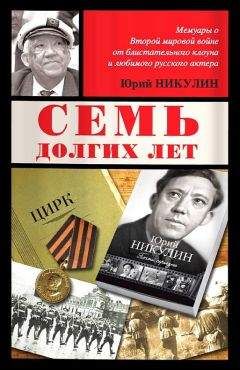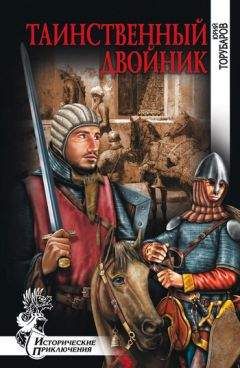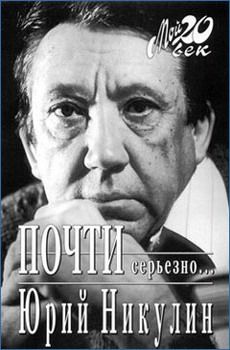Юрий Назаров - Только не о кино
«Что у него главное — религиозность, избранность? Или тяготение к символам?» Шеман Вильгот, шведский кинорежиссер, актер, писатель, критик, сценарист… Ему вторит Северин Кусмерчик из Варшавы: «К каким символам… стремился Тарковский? В чем заключается его «религиозность»?»
«Религия играла важную роль в жизни Тарковского, он всегда стремился к встречам с религиозными людьми, с интересом обсуждал с ними вопросы веры» (Михал Лешиловский, шведский монтажер, режиссер).
Ну вот не помню я, чтобы «всегда» Андрей «стремился к встречам с религиозными людьми»! Революционных демократов даже прошлого века и Герцена — не любил. Крепко. Это помню. (Хотя в душе не согласен с ним был, но помню! Куда денешься?) Помню, как он любил, обожал русские иконы, иконопись в полной святой убежденности: «Ну, это все любят…». (Я вовсе не разделяю этой его убежденности.)
Помню, как он, самозабвенно закатив глаза, как глухарь на току пел под гитару почти всегда одно и то же: переделку Г.Шпаликовым на мотив романса «Я встретил Вас…» — «Прощай, Садовое кольцо…».
Знаю, что безоглядно бросался в драку — за друга ли, за честь женщины… и вообще за честь и достоинство человека (и за свою в том числе), за справедливость. Вообще за все, за что стоило и стоит всегда бросаться в драку. Это все знают, но не все бросаются. А он бросался! Помню, что он обижал людей. Вольно, невольно, но обижал. Самых дорогих, самых близких, самых верных. Мужчин, женщин, родных, друзей, коллег, соратников (меня не обидел никогда, может, потому, что мы не были слишком близки?). Страшно мучился этим, страдал, переживал, но… было. Знаю. Помню. А насчет стремления к религиозным людям?.. Не знаю. Не помню. Не видел. Никогда не замечал.
Иосиф Бродский где-то заметил, что русской интеллигенции свойственно обожествление народа («обожествление народной массы, въевшееся в плоть и кровь русской интеллигенции». И.Бродский «Об Ахматовой»), Есть такая болезнь, такая беда, чего греха таить… И беда эта, с виду такая невинная, очень много вреда приносит. (Может, именно поэтому, что с виду кажется столь невинной?) Первым, кто мои мозги повернул в сторону этого греха нашего и осознания колоссального вреда от этого греха, был Тарковский. «Андреем Рублевым», нашим общим фильмом, он это сделал. Фильм «Андрей Рублев» для меня лично является не столько моим произведением, в коллективном авторстве которого я каких-нибудь своих полтора процента имею (да нет, поменьше, полтора — многовато), сколько произведением, воспитавшим меня. И воспитывающим! Не перестающим воспитывать. Как «Война и мир» Толстого… Как Микеланджело. Да вообще как вся мировая классика. М.А.Лившиц, философ-марксист, где-то советует: «Читайте Монтеня, Пушкина, Толстого», — ия это понимаю не как навязывание Лившицем своих литературных вкусов, а как совет: вот эти вот авторы более других учат мыслить, а меня (если считать, что я как-то могу мыслить) учил этому, кроме Монтеня, Пушкина и Толстого, еще и Тарковский.
И в этом тоже реализм Тарковского. Причем самый высокий, самый весомый, самый драгоценный (с моей точки зрения) реализм — реализм мысли. Не детали, не подробности, не положения, не антуража, а реализм мышления. В этом, кстати (опять же, как мне кажется) в нашем кинематографе рядом с Тарковским и поставить-то некого… Ну, разве что Эйзенштейна. С той только разницей, что Эйзенштейну не дали сказать (я имею в виду «Ивана Грозного», 3-ю серию, «Един, но один»), Тарковскому все-таки более повезло (с «Рублевым», дальше тоже не повезло…).
Из того же парижского буклетика: «На заре XV в., когда русский народ начал наконец осознавать свою жизнеспособность и единство, монах, богомаз и иконописец Андрей Рублев вскоре теряет известность, приобретенную при жизни.
Надо было произойти Октябрьской революции и вмешательству Ленина, чтобы его произведения, забытые и часто искаженные, вновь бы находились, изучались и реставрировались. В 1930 его иконы выставлялись в Кремле, в 1960 CССР отметил 600-летие его предполагаемого рождения.
Древние летописи отмечают его величайшее милосердие, коим он освещал грубый и жестокий мир, в котором жил. Возможно, именно это милосердие побудило его отказаться от следования византийским канонам и стать первым русским художником. Живые краски, непременно смягченные формы, нежное изящество, колорит, кроткая радость вместо испытаний и вечного страха перед Богом, суровым судией деяний человеческих. Вместо Спасителя с гневным глазом у Рублева впервые (!) Христос любящий, с дружелюбным взглядом.
И вот вокруг этой выдающейся личности Тарковский слагает гимн во славу своего народа. Фильм жесткий, но фильм необъятной надежды».
Несколько лет назад моя тогда 17-летняя дочь, собиравшаяся посвятить себя искусствоведению, посмотрела «Зеркало». И пришла в ужас. Не от картины. От себя. Бестолковой, неполноценной, ничего не понявшей, ничем в фильме (знаменитом! признанном уже тогда всеми!) не тронутой. Я не пришел в такой ужас от ее «неполноценности». Я понимал, что, несмотря на заявление Тарковского в прологе фильма устами вылечившегося от заикания юноши: «Я могу говорить», — я понимал, что сам Тарковский в «Зеркале» без «заикания» говорить все-таки еще не мог: ведь снималось «Зеркало» лет за 10–15 до «Покаяния», во времена самого глухого и могучего застоя. И я стал пытаться расшифровывать дочери все или какие-то ключевые, как мне казалось, «заикания» фильма. В частности, историю с «опечаткой». Где, на мой взгляд, гениально во времена, когда нельзя было говорить, — все-таки сказано! показано, через чушь, ерунду (приснилось, показалось женщине, что она пропустила в самом «высоком» издании какую-то смешную опечатку, которую обязательно расценили бы как «вредительскую»!) — вот через такую ерунду очень точно сказано было обо всей эпохе «культа личности». Я пытался объяснить молодой современной девице, в какой обстановке страха жила тогда вся страна, все мы, наши родители… И вдруг жена добавляет: «И ответственности!» Да! И ответственности! И это жутко важно. Это — правда. Это положительная сторона того времени. Как страх — отрицательная. И одного без другого быть не могло! И в этом гениальность Тарковского-художника: в маленьком глупом эпизоде суметь показать все время, все! Со всеми его ужасами, сложностями, достоинствами и недостатками.
Опять — где символизм? Какая религиозность? Высочайший реализм. На уровне всех мировых классических стандартов. А может, и повыше…
А как он работал! Наш брат-актер любит посмаковать всевозможные физические «страсти» и «ужасти», которые ему якобы приходилось выносить на съемочной площадке: как зимой лето снимают да по скольку дублей и т. п. Конечно, и у Тарковского на площадке всего этого хватало. Мою сцену скачки и рубки в «Рублеве», когда мой Малый князь зарубил монаха-богомаза, мальчишку (которого играл не профессиональный актер, а студент какого-то московского техникума, по фамилии Матысик, как сейчас помню…), и тот, перевернувшись от удара, падал рядом с жалобно вызванивающей пилой, а из разрубленной шеи била фонтанчиками алая артериальная кровь… Все это было придумано, сочинено, оставалось воплотить. Как? Придумано было и сделано устройство для фонтанирования артериальной крови, найдена пила, которая, как требовалось режиссеру, покачивалась и повизгивала, только моя спортивная лошадь никак не желала скакать вровень с операторской машиной (машина должна была останавливаться на заданной точке и дать возможность оператору В.И. Юсову, выпустив меня с лошадью из кадра, наехать на крупный план умирающего и фонтанирующего разрубленной шеей Матысика). Ну не привыкла лошадь к этому! Всю ее жизнь она приучалась к обратному: не терпеть никого вровень с собой: можешь — обгоняй, не можешь… Только не вровень! Больше недели мы бились над этим кадром. Двумя руками я проводил лошадь вровень с камерой, а сабля? А рубить? А Андрею нужно было, чтоб сцена была снята только так, как он задумал, и никак иначе.
И вот каждое утро (по солнцу снимать можно было только часов до десяти утра. Спасибо, не целый день), каждое утро, нацепив на себя сорок килограммов железа… ну пусть двадцать, но не меньше! Тоже неплохо, не хило — одна только кольчуга не менее двенадцати кило, да сабля с ножнами, да мисюрка на голове, да зерцало сверх кольчуги, да поручи… Взгромождался я на своего Лира, отдохнувшего, успокоившегося за ночь, и мы выезжали на «точку».
При первом же звуке мегафона, через который нам подавали команду, моего Лира сотрясала нервная дрожь, и он, еще не сделав ни единого шага, вмиг покрывался пеной, от одного звука мегафона, именуемого у нас «матюкальником». Мое «княжеское» седло почему-то было обито жестью (как бабушкин сундук!), и, как на сундуке, эта жесть лопалась и торчала в разные стороны, так что руки у меня были изодраны в клочья. И — все никак. Уже пошли разговоры: а не заменить ли лошадь? (А может, и артиста? — подумал я сейчас… До меня, естественно, тогда доходили разговоры только о замене лошади, но могли ведь быть и другие разговоры, которые до меня не доходили…). Вторую неделю бьемся — и никак! Пока наконец не приехал опытный конник, прежний хозяин моего Лира, поставил какой-то «шпрунт», чтоб конь не мог голову задирать — и сцена была снята. Еду я после этой съемки вдоль декорации, еле живой, истерзанный, измочаленный, на взмыленном, задерганном коне, а навстречу нам — Андрей. Я поднял саблю и направил на него, нашего «мучителя», коня. Не думаю, чтоб Андрей не понял, что это было обыкновенное дурачество, — хотя и не без доли истины, которая есть в каждой шутке, — но на всякий случай он нырнул от нас под сруб какого-то амбара или сарая.