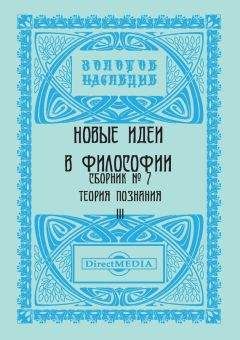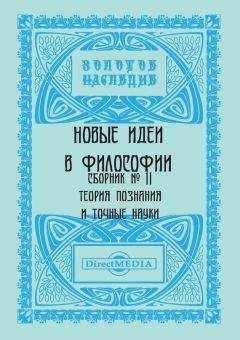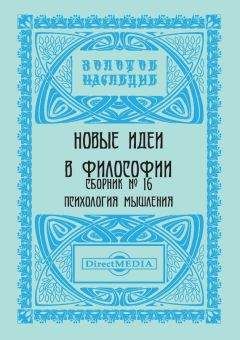Дмитрий Токарев - Курс на худшее: Абсурд как категория текста у Д.Хармса и С.Беккета
Тут мы стоим и говорим: Вот я вытянул одну руку вперед прямо перед собой, а другую руку назад. И вот я впереди кончаюсь там, где кончается моя рука, а сзади кончаюсь тоже там, где кончается моя другая рука. Сверху я кончаюсь затылком, снизу пятками, сбоку плечами. Вот я и весь. А что вне меня, то уж не я. Теперь, когда мы стали совсем обособленными, почистим наши грани, чтобы лучше видать было, где начинаемся уже не мы. Почистим нижний пункт — сапоги, верхний пункт — затылок — обозначим шапочкой; на руки наденем блестящие манжеты, а на плечи эполеты. Вот теперь уже сразу видать, где кончились мы и началось все остальное.
(Псс—2, 300)По мнению Михаила Ямпольского, все эти предметы входят в образ тела, подчеркивая «двусмысленность телесных границ» (Ямпольский, 180). С другой стороны, стоит отметить, что и сапоги, и шапочка, и манжеты, и эполеты надеты на голое тело; кроме них, на Хармсе ничего нет. Хармс похож на голого квартуполномоченного из текста «Трактат более или менее по конспекту Эмерсена», который увешал себя кольцами и браслетами, шарами и целлулоидными ящерицами, то есть автономными, не связанными друг с другом, а потому «совершенными» предметами. И квартуполномоченный и сам Хармс существуют отдельно от мира; подобно единице, они стоят «в стороне» от него, выключены из причинно-следственных связей бытия. Хармс надевает на себя сапоги, шапочку, манжеты и эполеты совсем не для того, чтобы поставить под сомнение автономность своего существования, иначе зачем бы он так настаивал на своей обособленности от него? На самом деле, все эти предметы одежды создают как бы некий контур вокруг поэта, превращая его тело в «совершенный», замкнутый на себе, алогический предмет; он надевает их для того, чтобы не допустить растворения своего тела в общей массе мира.
Но как тогда быть с вытянутыми назад и вперед руками, ведь именно вытянутая рука, как считает Ямпольский, «позволяет проецировать чувство дистанции на окружающее тело пространство» (Ямпольский, 179)? Это пространство тем самым включается в поле тела, осваивается им. Вытянутая рука — это также согласие человека на контакт с окружающим миром, хотя этот контакт может закончиться потерей доверчиво протянутой вперед руки. В тексте «История Сдыгр Аппр» (1929) рассказывается именно о такой ситуации:
Андрей Семенович. Здравствуй, Петя.
Петр Павлович. Здравствуй, здравствуй. Guten Morgen. Куда несет?
Андрей Семенович протянул руку Петру Павловичу, а Петр Павлович схватил руку Андрея Семеновича и так ее дернули, что Андрей Семенович остался без руки и с испугу кинулся бежать.
(Псс—2, 7)Вытягивая одну руку вперед, а другую назад, Хармс как бы желает проверить, чего ему следует ожидать от окружающего его пространства. Убедившись, что нападение ему не грозит, он приступает к регистрации мира. Иными словами, Хармс отнюдь не пытается овладеть миром; пока что перед ним стоит другая задача — обособиться от него, осознать себя в качестве автономного субъекта восприятия. Если ему удастся достигнуть своей цели, можно сказать, что он успешно прошел первый этап очищения мира. Вторым этапом будет нечто прямо противоположное — теперь ему предстоит отказаться от эго, от я и раствориться в безымянности оно. Этот этап чрезвычайно опасен, залогом его успешного прохождения служит как раз предварительное осознание себя в качестве обладающего свободой воли творца. Единица, объясняет Хармс, регистрирует другие числа, укладываясь в них; поэт также укладывается в мир-в-себе, чтобы познать изнутри механизмы порождения алогического смысла. Речь, конечно, не идет о регистрации формальной, поэтому ответ на вопрос своего воображаемого собеседника — «А как же мы будем укладываться в другие предметы, расположенные в мире? Смотреть, насколько шкап длиннее, шире и выше, чем мы?» — будет, несомненно, отрицательным. «Единица регистрирует числа своим качеством. Так должны поступать и мы» (Псс—2, 302). Что такое качество, по Хармсу, мы уже знаем: глухота, носота, немота, слепота. Вот тут и вступает в дело оружие, то есть единица или еще, как говорит сам Хармс, его «единственная плоть». Оружие Хармса — его эрегированный член, который противостоит бесформенности мира, его женской природе. Седьмой пункт трактата является описанием борьбы поэта со своей слабостью, в том числе и половой (мы знаем, что в это время первый брак Хармса фактически распался); одержать над ней верх позволяет сабля:
Но сабля войны остаток
моя единственная плоть
со свистом рубит с крышь касаток
бревна не в силах расколоть,
Менять-ли дело иль оружие?
рубить врага иль строить дом?
Иль с девы сдернуть с дуба кружево
и саблю в грудь вонзить потом.
Я плотник саблей вооруженный,
встречаю дом как врага.
Дом саблей в центр пораженный,
стоит к ногам склонив рога.
Налицо характерное для чинарей смещение смысла: вначале образ дома не имеет никаких сексуальных коннотаций; тот, кто не смог отразить «нашествие смыслов», делает «свое мирное дело», строит свой дом — идеал мещанского счастья. Глубинный смысл образа становится явным, когда возникает мотив слабости и связанный с ним мотив девственности. Сдергивая с девы кружево, Хармс не просто демонстрирует, что не боится женской наготы; он подчиняет своей воле весь мир, срывая с него ту категориальную «сетку», которую, по выражению Друскина, человек на мир налагает[395].
Дом как некое замкнутое пространство — это еще одна вариация знаменитого обэриутского шкапа (другие вариации: сундук в одноименном «случае», чемодан в «Старухе» и т. п.). Попасть в шкап — значит умереть, «сыграть в ящик», вернуться в дородовое состояние, в покой материнского чрева[396]. Михаил Золотоносов, разобравший стихотворение «однажды господин Кондратьев…» (1933), показал, что «американский шкап для платьев», в который попадает господин Кондратьев, оказывается символом женских половых органов, точнее, половых органов первой жены Хармса Эстер Русаковой. Половой акт, таким образом, уподобляется умерщвлению, пусть и символическому. Умерщвление плоти является необходимым этапом на пути к обретению нового тела, обладающего духовно-материальной природой. Новое тело будет неподвластно грубому влечению плоти, ибо сексуальность в нем будет присутствовать лишь в сублимированном виде, как диалектическое единство мужского и женского начал. В алхимической традиции взаимное влечение противоположностей, ведущее к их алогическому единству, изображалось именно как символический половой акт между Царем (анимусом в юнгианской терминологии) и Царицей (анимой).
Я уже вспоминал тот эпизод из «Старухи», когда рассказчик открывает ключом свою комнату, в которой он оставил мертвую старуху. Проникая в комнату, он, сам того не подозревая, переходит невидимую границу между жизнью и смертью и оказывается там, где не действуют законы логики. Характерно, что это проникновение не лишено сексуальных коннотаций: вставляя ключ в замочную скважину, рассказчик совершает символический половой акт со старухой, причащаясь миру, где, как сказал бы Леонид Липавский, «нет разделения, нет изменения, нет ряда» (Чинари—1, 79). При этом он перестает быть мужчиной в собственном смысле слова: все его усилия догнать симпатичную дамочку, встреченную им ранее в булочной, терпят неудачу, и это вполне понятно, ведь он тащит чемодан-гроб со старухой.
В 1931 году Хармс пишет маленький текст, обращенный, по-видимому, к Эстер:
Прежде, чем придти к тебе, я постучу в твое окно. Ты увидишь меня в окне. Потом я войду в дверь, и ты увидишь меня в дверях. Потом я войду в твой дом, и ты узнаешь меня. И я войду в тебя, и никто, кроме тебя, не увидит и не узнает меня.
(Псс—2, 35)Совокупление мыслится Хармсом как мистический акт вхождения в дом, вхождения тайного, скрытого от профанного взгляда. Нечто подобное имеет место и в «Сабле»: по сути дела, конечной целью «поражения» девы-дома саблей является достижение андрогинного единства.
То, что Хармс рассматривает совокупление не как банальный физиологический акт, а как мистическое действо, говорит о его знакомстве с различными оккультными доктринами, заимствовавшими свою символику в древних верованиях. В бумагах Хармса сохранился лист, на котором изображено несколько таких архаических символов: крест жизни, так называемый crux ansata, состоящий из тау-креста и венчающего его овала; цветок; сефиротическое дерево, перевернутое корнями вверх. В самом низу листа нарисовано окно — излюбленный хармсовский символ, а в самом верху — расположены три знака, воспроизводящие, в зашифрованном виде, имя египетского бога Осириса. Анализ всего комплекса значений, связанных с данными символами, не входит здесь в мою задачу: об этом уже писали и М. Ямпольский, и А. Герасимова с А. Никитаевым[397]. Я хотел бы обратить внимание лишь на крест жизни, в изображении которого комбинируются женское (овал) и мужское (тау-крест, имеющий форму пениса) начала. Тем самым эксплицируется глубинное единство двух стихий, служащее основанием круговорота жизни и смерти.