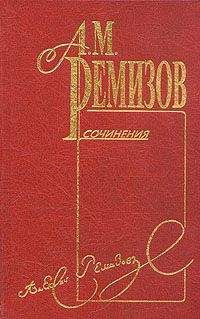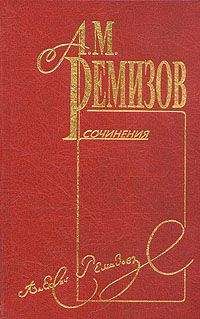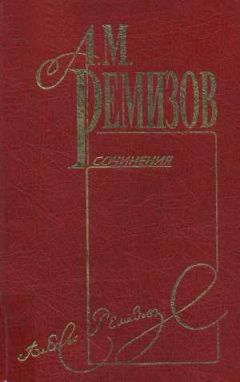Елена Обатнина - Алексей Ремизов: Личность и творческие практики писателя
Неудивительно, что художественная ткань классики заменяла Ремизову повседневную действительность, становилась контекстом личной жизни. «Как бы превращая себя в другого» (согласно этому герменевтическому правилу, сформулированному еще Шлейермахером, индивидуальность автора следует постигать в непосредственном восприятии с целью понять писателя лучше, чем он сам себя понимал[639]), Ремизов ощущал в себе подлинную способность изъясняться языком классических героев, ощущать их мысли, видеть их сны, быть участником мистических коллизий и магических метаморфоз, устремляясь к тем замыслам, которые возникали в сознании их великих творцов. «Весь охваченный жгучим вийным веем я вдруг увидел себя, забившимся за иконостас алтаря, невидимым для подземных чудовищ с отвратительными залупленными хвостами. Я различаю из-за своей засады в трепещущей от свечей, облитой светом трутовой ветхой церкви в третью и последнюю ночь Хомы Брута»[640]. Ремизов-чтец открывал слушателю магию литературного творчества как такового, заключавшуюся не столько в озвучивании текста, сколько в его осуществлении, — текст буквально воплощался в слове и, воплощаясь, наполнялся новыми смыслами. По сути такое восприятие чтения приближалось к процессу посттворчества, которое подразумевает раскрытие нового содержания пусть даже и хрестоматийно известного литературного текста уже в самом индивидуальном сознании читателя, зрителя, слушателя.
Суть пушкинского феномена писатель, как и в случае с Гоголем, раскрывал через сближение собственного представления о поэте с неким мифологическим образом. Гоголь для Ремизова — «озорная кикимора», мятущаяся между человеческим и демоническим, в то время как творчество его органично и нераздельно, подобно стихийной силе: он — «весь кипь и хлыв слов»[641]; Пушкин в некотором смысле его антипод: демон. Он — «…один из тех, кто выведал тайну воплощения Света; с лилией, поднявшись со дна моря и, пройдя небесные круги, <…> явился на землю…» Обнаруживая антитетические взаимодействия между великими мастерами слова, Ремизов постепенно выстраивал оригинальную систему соотношений между произведениями русской прозы, в которых сон оказывался не столько литературным приемом, сколько первостепенным, определяющим признаком, характеризующим инфернальную природу самого литературного дара, открывающего дорогу в мир вечных сущностей.
В представлении Ремизова словесная материя Пушкина соединяла два противоположных типа художественного воспроизведения жизни — поэзию и прозу. Пушкинская поэзия казалась отображением подлинного и вечного, открывала сознанию путь к свободной фантазии и игре воображения. «…Мой слух, — делился идущими еще из детства впечатлениями Ремизов, — был и моим воплощением — я чувствовал себя Татьяной, Марией, Самозванцем, Лебедью, Белкой — веретенным ритмом сказки; и я не только чувствовал, я вдыхал и ту природу — землю этих образов и ритма: Россия, русская речь. А еще позднее я сказал себе: я слушал и чувствовал, я воплощался в Татьяну, Марию, Самозванца, Лебедь, Белку под чарами слова…»[642] Проза, напротив, ассоциировалась в его творческом восприятии лишь с искусной подделкой жизни. Как музыкант, не терпящий фальши, Ремизов выверял пушкинские тексты на звучание и не находил в них того очарования, каким блистала поэзия: «…занимаясь словесным ремеслом, я взялся читать по-своему: я следил словами, выговаривая и прислушиваясь; и у меня осталось: читаю „стилизованные рассказы“. <…> Традиция пушкинской прозы не в словесном материале — я не нашел ничего от пушкинской поэзии, и слух не Пушкина»[643].
Другой очерк о Пушкине, посвященный свободной русской речи (в «Огонь вещей» он вошел под названием «Живой воды»), открывался энигматической сентенцией: «С Пушкина все началось, а пошло от Гоголя». Язык Пушкина — Альфа и Омега русского литературного языка, его прекрасный эталон. Поэт первым задал тревожный вопрос: «Заговорит ли Россия по-русски?» Однако, по Ремизову, «проза Пушкина <…> — думано по-французски и лада не русского»[644], в то время как Гоголя природа наделила величайшим даром — «владеть, как никто, словом»[645]. Работая над очерком, Ремизов вполне отдавал себе отчет в том, насколько многогранна и значима затронутая тема, вероятно, высокая степень ответственности заставила его обронить в письме к А. Ф. Рязановской 20 мая 1949 года, сразу после завершения работы над статьей к 150-летию Пушкина, следующее признание: «Мне так трудно такое писать, я не ученый»[646].
Бесспорно, оригинальная мысль Ремизова плохо уживалась с общепринятым научным дискурсом. На эту особенность художественного дарования писателя впоследствии обратила внимание и критика: «…настанет время, — писал Г. Адамович, — когда во всеоружии исторических и лингвистических знаний, подлинный ученый, наделенный при этом подлинным чутьем к слову, установит к ремизовским призывам и обличениям единственно верное решение: как к любопытной, курьезной, очень талантливой причуде, как к занимательной и даже соблазнительной ереси, — в соответствии, впрочем, со всем творческим обликом Ремизова, где причуды, затеи, игра, капризы и странности чувствуются за каждой чертой»[647]. Когда Ремизов еще только приступал к своему «странствию по душам» (выражение Льва Шестова) русской классики, он осознавал несомненное превосходство художественного мышления над методологией профессиональных историков литературы. Его суждения о литературных произведениях являлись результатом не столько строго логического анализа, сколько итогом личных, глубоко интимных душевных переживаний.
Пушкинская тема открыла простор рассуждениям писателя о словесном материале русской классики. Находясь большую часть своей творческой жизни в чужой языковой среде, Ремизов был чрезвычайно озабочен проблемой сохранения индивидуальности русской речи, как в ее общенациональном звучании, так и в авторской неповторимости. Страстно желая, чтобы его собственные произведения издавались не только по-русски или по-французски, но и на других языках, писатель, казалось бы, сам создавал препятствия для их перевода. «Мне очень трудно писать и из-за глаз и еще, я теперь понял, во мне постоянная борьба двух грамматик: иностранная с природной русской (неписаной), — делился он своими сомнениями с Г. П. Струве 5 февраля 1946 года. — Когда пишут о двух направлениях в русской прозе: пушкинской и гоголевской — это не верно: надо делить на иностранную и русскую (едва-едва пробивается). А Гоголь — какой же он русский? Гоголь — польский (я говорю о стиле). Гоголь-Марлинский и его учитель польскому Сенковский. Переписываю по 5–6 раз! Все мне кажется литературным, что переводится на иностранный язык. А добиваюсь я своего, нашего природного — непереводимого»[648].
В конце 1944 — начале 1945 годов Ремизову самому пришлось решать непростую задачу перевода русской классики, когда французское издательство «Quatre Vents» по рекомендации художника Ю. Анненкова обратилось к нему с двойной просьбой — перевести рассказ Достоевского «Скверный анекдот» и написать предисловие к готовящемуся изданию. Если в Гоголе Ремизова всегда привлекало волшебство слов, создающих яркий цветной мир, то Достоевский открыл для него духовную силу материализующейся мысли. Анненков вспоминал, с какой серьезностью и вместе с тем с иронией Ремизов относился к этой теме, открывавшейся вместе с проникновением в поэтику и языковую структуру произведения Достоевского: «Однажды, в этот период, я забежал к Ремизову осведомиться — как и что? Стоял ясный и солнечный день, а в комнате были закрыты оконные ставни и горела электрическая лампа. Заметив удивление на моем лице, Ремизов пояснил: — Комнатенка крохотульная, махонькая, а работище огромная, места для нее недостаточно: выпирает в окно. Вот и приходится запирать наглухо ставни»[649]. В печати появился лишь перевод рассказа, сделанный Ремизовым (в этой работе писателю помогал французский литератор и переводчик Ж. Чузевиль), а предисловие (вошедшее в «Огонь вещей» под названием «Потайная мысль») вместе с историко-литературным комментарием (так никогда и неопубликованным[650]) издательство, по свидетельству мемуариста, отвергло, сочтя его «не отвечающим требованиям французского читателя». Анненков, очевидно, был недалек от истины, когда предположил, что «ремизовское предисловие показалось издателям недостаточно академичным»[651]. Бесспорно, такое исследование было противопоказано приверженцам хрестоматийного знания, поскольку основным поводом к созданию очерка вновь стало желание писателя раскрыть «неочевидные очевидности», обратить внимание на волшебный строй классической прозы Достоевского, восходящей к поэтике Гоголя.