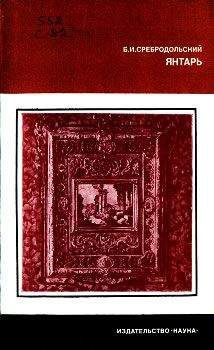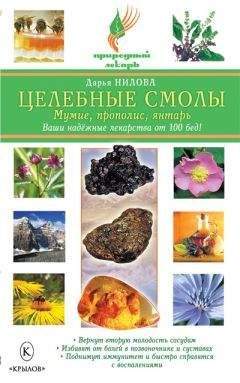Роберт Каплан - Муссон. Индийский океан и будущее американской политики
Возьмем, например, отношения с мусульманской Бангладеш: Индия окружает ее с трех сторон. И людям, и товарам всего легче было бы добираться из одной индийской области в другую, держа путь через Бангладеш. Это ускорило бы экономическое развитие неустойчивого индийского северо-востока и принесло Бангладеш крупные доходы от транзитных сборов. (Кстати, уже решено, что по территории Бангладеш будет проложен газопровод из Бирмы в Индию.) Политическая система Бангладеш являет собой развалины, и вся надежда этой страны – лишь на большее экономическое сотрудничество с Индией. Именно этого страшатся в Калькутте. Старшее поколение – включая беженцев, очутившихся там после раскола страны в 1947-м, – со вздохом вспоминает об утраченных землях, лежащих поодаль от моря; однако многие – и особенно младшее поколение – смотрят на Бангладеш теми же глазами, какими смотрят американцы на Мексику: обнести бы все это место непроницаемой стеной! «Отгородите нас от радикальных мусульман, пусть сидят по свою сторону границы и ведут себя смирно!» – сказал мне известный калькуттский журналист. В Индии живут уже десять с лишним миллионов бенгальцев, попросивших экономического убежища; индийцы не желают новых гостей. К тому же нынешняя граница, тянущаяся близ Калькутты, служит неким историческим утешением: издавна, еще с XIX в., индусские интеллигенты и аристократы, обитавшие в Калькутте и Западной Бенгалии, высокомерно глядели на мусульманское крестьянство, населявшее Бенгалию Восточную. А вот в Пенджабе совсем обратное положение вещей: к собратьям-пенджабцам, очутившимся за индийским западным рубежом после отпадения Пакистана, относятся вполне дружелюбно. Выражаясь короче, Индия до сих пор не может свыкнуться с новыми границами, появившимися после разделения страны.
Великая Индия, желающая распространить свою экономическую динамику к востоку – в Юго-Восточную Азию, к северу – в Китай и к западу – на Средний Восток, для начала должна проделать это у себя дома, на собственных полуконтинентальных задворках. Тут потребуются исключительные смелость и великодушие – то, чего Индии нынче недостает.
Гораздо шире Великой Индии – сухопутной державы – огромная индоокеанская литораль, о которой не стоит забывать. Керзон сосредоточивал внимание на вопросах политики чисто сухопутной лишь оттого, что Британия в его время уже «правила волнами» повсеместно и безраздельно. А вот Индии, как мы убедились, приходится теперь поразмыслить над своей ролью на море – и на суше, лежащей за ним. Индия, пишет Раджа Мохан, отметает сентиментальную заботу о третьем мире, проявлявшуюся когда-то по отношению к Восточной и Западной Африке. Ныне Африку рассматривают лишь как источник сырья и стратегически важную территорию. Сегодня индийский флот крейсирует между Африкой и Мадагаскаром, в Мозамбикском проливе, через который индийскому населению – уже миллиардному и все ненасытнее требующему топлива – поставляют уголь. Если вспомнить, что от случая к случаю индийский флот эскортировал американские боевые корабли в Малаккском проливе, то возникнет завершенный образ державы, обретающей истинное могущество и присутствующей в великом Индийском океане постоянно и повсеместно.
Разумеется, в Индийском океане преобладает пока что флот американский. Поскольку индийский флот (значительная региональная сила) все еще не может равняться с американским, неокерзонцы желают военного союза с Соединенными Штатами де-факто. Обратите внимание: де-факто. И в Калькутте, и в Нью-Дели я слышал вновь и вновь: как была Индия «неприсоединившейся» страной во время холодной войны, так и должна оставаться ею в будущем. Она вынуждена склоняться к Соединенным Штатам, чтобы лучше использовать собственную мощь, – однако без особого стеснения позволяет себе раздражать и сердить Китай: с ним Индия одновременно и спорит за сферы влияния, и ведет активную торговлю.
В конечном счете Индию объединит с Соединенными Штатами не столько некое стратегическое предвидение, сколько наличие у индийцев развитой демократической власти. Оно же постепенно вовлечет в индийскую орбиту окружающие страны, чьи народы стараются воспроизвести у себя индийское государственное правление: свободное от принуждения, однако достаточно действенное. И уж лорд Керзон, по-отечески заботившийся об индийцах, но даже не помышлявший об индийском самоуправлении, вряд ли смог бы представить себе что-либо подобное.
Безусловно, Керзон останется для очень многих и духовным наставником, и вожатым во всем, относящемся к индийской внешней политике в бассейне Индийского океана и за его пределами. Ибо в эпоху Керзона перед империализмом стояли те же стратегические задачи, что стоят перед индийским национализмом сегодня.
«Национализм – ложное божество, чуждое прекрасному», – сказал бенгальский поэт, прозаик и художник Рабиндранат Тагор[53], удостоившийся в 1913 г. Нобелевской премии по литературе. Это изречение висит на стене дома-музея поэта – просторной фамильной усадьбы на севере Калькутты. Дворики музея со вкусом украшены живыми цветами, в комнатах и залах чарующе звучат стихотворения Тагора, положенные на музыку, стены украшены модернистской живописью и портретами. Имение Тагора уютно, ему присуща почти волшебная человечность – чего никак не скажешь об исполинском и холодном Правительственном доме, где работал Керзон.
Безусловно, в облике длинно– и седобородого Тагора есть нечто мистическое. Однако представлять его мистиком – неким восточным мессией, как иногда утверждают, – значило бы умалять поэта, намекать, что его произведения то ли чересчур назидательны, то ли лишены внутренней дисциплины [6]. Ученый из Гарварда Амартия Сэн замечает: смотреть на Тагора теми глазами, какими смотрели многие западные читатели, в известном смысле считать его «гуру, духовным наставником и проповедником» – значит воспринимать его поразительно узко [7]. Если что и придает искусству Тагора мистические свойства – это его изысканный и вместе с тем естественный универсализм, всечеловеческий дух – неразрывно тем не менее связанный именно с индийской, бенгальской почвой. Керзон – законченный прагматик и образец для подражания в эпоху многополюсной азиатской политики силового равновесия; а Рабиндранат Тагор, всю жизнь искавший путей, уводящих прочь от национализма, оказывается среди писателей и мыслителей, наиболее желанных и своевременных в эру глобализации – хотя великого индийца не стало почти семь десятилетий назад.
Произведения Тагора вызывают глубокое восхищение по той же причине, что и работы оксфордского философа сэра Исайи Берлина: оба мыслителя рассматривают свободное и духовно чистое человеческое существо как высшую историческую силу. Тагоровские стихи, 90 с лишним рассказов, повестей и романов – художественный эквивалент гуманистической философии Берлина. Литературное наследие Тагора колоссально. Человеческие слезы льются в его завораживающих рассказах и повестях подобно муссонным дождям. Тагор, так же как и Берлин, вовсе не проповедует; в его книгах нет «ни теории, ни философии» [8]. Всю жизнь Тагор писал в основном проникновенные рассказы и повести о людских устремлениях и душевных порывах, а местом действия зачастую делались идиллические сельские края. Сплошь и рядом читательское сердце щемит. Вот молодой человек, ничего не добившийся в жизни и тщетно тоскующий по женщине, которая могла когда-то его полюбить; а вот скелет, учебное пособие в медицинском училище: некогда он был красавицей, лелеявшей заветные мечты и надежды; бедный писарь, проводящий вечера под крышей вокзала Сеалда, чтобы выгадать немного денег на домашнем освещении; неуклюжий подросток, поселившийся в Калькутте, смертельно заболевший и вспоминающий мать, которая осталась жить в деревне; торговец-разносчик, подружившийся с маленькой девочкой лишь оттого, что она похожа на его собственную дочь – там, в далеком Афганистане; девятилетняя индийская невеста, спасающаяся от одиночества тем, что ведет дневник в дешевой тетради; женщина, влюбившаяся в юношу-бродягу, который постучался к ней в дверь. А вот кашляющий, догола раздетый мальчик: мать отхлестала ребенка, вытолкала за порог, на холод, – и в глазах Тагора мальчик этот воплощает все страдание, сколько ни есть его на белом свете.
Рассказов немало, и каждый напитан милосердным сопереживанием. Человеколюбие Тагора сказывается в том, что автор полностью сосредоточивается на участи маленьких, на первый взгляд ничем не примечательных личностей, чьими надеждами, упованиями, страхами переполнен целый мир. В тагоровских произведениях нет ничего грандиозного, приподнято-преувеличенного; им всегда присуща тихая задушевность. Бенгалец до мозга костей, Рабиндранат Тагор часто пишет о муссонах («Алчно и торопливо Падма[54] принялась поглощать сады, селения, поля») и о гхатах – спускающихся к речной воде ступенях, на которых совершают омовения, стирают белье и судачат о том о сем. Для Тагора гхаты – места, где люди встречаются и расстаются: и буквально, и символически [9].