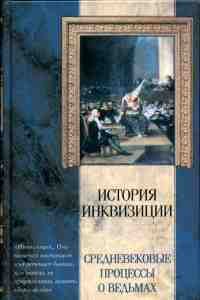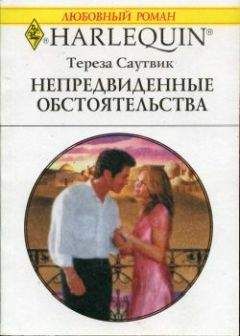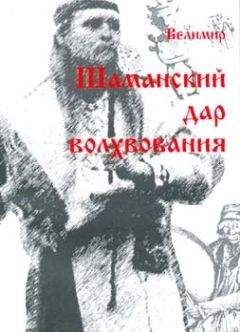Николай Сперанский - Ведьмы и ведьмовство
Но вера «сонма теологов» становилась теперь всеобщим достоянием не только путем проповеди. Мы раньше уже говорили про то, какой странный характер представляет на первый взгляд школа раннего средневековья. Она была церковной, она готовила почти что одних клириков, и в то же время она почти что не учила богословию. Мы указали и на то, в какой тесной связи стояло это с характером самой церкви в ту эпоху, когда от истинного христианства в ней сохранялись почти что только одна обрядность и буква старого церковного законодательства. Но и в дальнейшем развитии средневековой школы такое противоречие между церковной теорией, гласившей, что все науки имеют цену лишь постольку, поскольку они служат нуждам богословия, и между жизненной действительностью отнюдь не изгладилось. Та же начальная школа, как и при Карле Великом, с псалтырем, святцами, церковным пением, но без всякого катехизиса; затем латинские авторы для упражнения в латинском языке, после того артистический факультет, занятый изучением греческой Аристотелевой философии, и, наконец, для малого числа избранных один из «высших факультетов», теологический, юридический или медицинский — такова была лестница средневекового образования в университетскую эпоху. «Рациональная теология» при этом признавалась безусловно царицей всех наук. Ее нуждами оправдывалось и то положение, которое успел занять в системе средневекового образования Аристотель. Но до ее высот поднимались лишь единицы; сама же она не снисходила на низшие ступени школы, и таким образом на практике питомцы средневековых университетов в массе своей оказывались вскормленными на остатках греческой философии, а не на богословской науке. Средневековый юрист или медик твердо знал школьного Аристотеля; но о религии он знал почти лишь то, что ему приходилось слыхать в церкви, — если он не пополнял потом сам такого пробела в образовании путем самостоятельного чтения. Да и множество священников стояли к «рациональной теологии» в таком же отношении. Недаром Шпренгеру с Инститорисом приходилось так плакаться на невежд–проповедников, которые позволяли себе утверждать, будто никаких колдуний или ведьм на деле нет, и недаром в назначенный для священников и для юристов «Молот ведьм» они должны были переписывать длинные отрывки из схоластической «пнев–матологии»: с выводами Фомы Аквинского в этой отрасли науки тогда среди общества мало кто был обстоятельно знаком. К концу же средних веков, когда Аристотель был потеснен в университетах гуманизмом, это несоответствие между теорией образования и тем, что университеты действительно давали большинству своих воспитанников, сделалось еще резче. «Поди в Рим, обойди весь христианский мир, — с негодованием восклицал Савонарола, — в домах прелатов и владык нет другого занятия, как поэзия и риторика. Поди же, посмотри: ты увидишь их с гуманистическими книжками в руках, как будто они могут при помощи Виргилия, Горация и Цицерона спасти души… Зачем вместо всех этих книг не учат они одной книге — книге закона, книге живота».
И реформация с первых же своих шагов обрушилась на такое несоответствие со всею силой. Уже в одном из самых ранних боевых своих произведений — в «Письме к немецкому дворянству» — Лютер потребовал, чтобы этому был положен конец. «Университеты наши тоже нуждаются в основательной, глубокой реформе. Я должен это сказать — пускай на меня гневается кто угодно. Все, все, что папство завело и учредило, все ведет лишь к тому, чтобы умножать грех и заблуждение. Что являют собой университеты, если их не перестроить, как не «арены юношей и греческой славы», по выражению книги Маккавей–ской, где ведут распущенную жизнь, где ничего почти не учатся Священному Писанию и христианской вере и где царит один слепой язычник Аристотель гораздо больше, чем Христос». «Нет, — продолжает он, — отныне во всех высших и низших школах первым и главным предметом должно являться Св. Писание… Туда же, где Св. Писание не царит над всем, я никому не посоветую отдать своего ребенка». И реформация провела свое требование на деле. Правда, Св. Писание представлено было при этом главнейшим образом в виде более или менее пространных учебников по лютеранской или кальвинистской теологии. Но зато такой учебник стал теперь необходимою принадлежностью всякого учебного заведения, начиная с школы грамотности и кончая «академическими гимназиями». Pietas, основанная на знании «чистой веры», была теперь объявлена главной целью воспитания на всех его ступенях и внедрялась в умы и сердца учеников с примерным рвением. И если в средние века даже из тех, кто шел в школу для подготовки к духовному званию, немногие выносили из нее знание «рациональной теологии», то в конце XVI и в начале XVII столетия школьное знакомство с ее элементами составляло необходимую принадлежность всякого образованного человека. Недаром эпоха эта окрещена названием «теологического века». Теология действительно теперь пропитывает собой насквозь всю умственную атмосферу. Короли и князья, юристы и медики, все теперь вместе с тем являются до известной степени теологами, и даже безграмотный народ все же заучивал с голоса дьячка «свою веру».
К каким же результатам приводило в нашей области это усиленное старание новых народных воспитателей сделать все общество причастным тому миросозерцанию, носительницею которого являлась высшая школа? К тем самым, несомненно, на которые указывает Янсен. Перо из крыла Гавриила Архангела, уголья, на которых жарился св. Лаврентий, и прочие «реликвии», которыми морочили простой народ католические монахи, были, правда, беспощадно выметены из тех стран, где удалось восторжествовать протестантизму. Но этот отказ от католического культа святых, это уничтожение множества суеверных обычаев и обрядов нисколько не доказывает, чтобы руководители протестантской церкви смотрели на мироздание более «просвещенными» глазами, нежели их католические предшественники. И Герсон, как мы говорили, считал, что с этой стороны в католицизм вкралось многое такое, «опущение чего было бы согласнее с истинной святостью». Это, однако, не мешало ему быть убежденным защитником реальности колдовства и приравнивать сомнения в ней безбожно. Так точно и протестантская школа, отвергая по религиозным соображениям культ святых, тем не менее слышать не хотела о мире без сверхъестественного элемента, о мире без чудес, повинующемся лишь раз навсегда установленным для него законам. «Адемонизм» людей, которых проповедники именовали то «умниками», то «невеждами», и протестантской теологией приравнивался к «эпикуреизму» и атеизму. Смелость, с которой проповедники кричали на астрономов, что те не заставят их «зарыть свой талант в землю», что те не заставят их отказаться от разъяснения народу назидательного смысла каждой кометы, была смелостью людей, чувствовавших себя на твердой научной почве. Они здесь повторяли лишь то, что они вынесли из университета. Разве же «магистр Филипп» (Меланхтон) в физике своей не доказал несостоятельность учения стоиков, — «склонность к которому есть у многих, склонность к которому найдет в себе всякий, кто заглянет в свою душу», — будто бы в мире не бывает отмены для действия «вторых», чисто физических причин? И разве в рассуждении о четырех видах Prodigia он не написал прямо по поводу комет: «Хотя малые пожары в воздухе, которые случаются нередко, как падающие звезды, часто ничего собой для людей не предвещают, но более крупные и редкие, как кометы, по большей части являются предзнаменованием грядущих на земле событий, как говорит Клавдиан:
Et coelo nunquam spectatum impune Cometen.
Что же перед этим были для протестантского проповедника какие–то астрономические выкладки, тем более что его собственный ум ими нисколько не смущался: по математике теологи XVI и XVII веков знали лишь то, что выносили из гимназии, т. е. в лучшем случае, четыре арифметические действия с целыми и дробными числами и тройное правило.
Но Янсен совершенно напрасно оставляет при этом в тени, что в море литературы, которая в эпоху реформации наполнена была рассказами и рассуждениями о сверхъестественном в природе, нельзя найти ни одной оригинальной, самобытной черты. Народная литература играет все теми же представлениями, как и в эпоху, когда Цезарий составлял Dialogus Miraculorum, с прибавкой ведьм, явившихся на свет в XV столетии. Ученость же протестантская осмысливает эту игру народной фантазии точь–в–точь так же, как ее осмысливала средневековая схоластика. В демонологии протестантизм не был «протестантизмом»: он не опротестовал ни одного из положений церковной католической науки. Проверив ее посылки и выводы, он их нашел совершенно правильными и целиком себе усвоил, как он усвоил от старого католицизма и многое друroe. Он, впрочем, никогда и не выставлял себя принципиальным противником всего католического учения; он только желал его «реформировать», согласив его с учением древней церкви. Но в этом отношении ему не приходилось делать схоластике упрека за искажение старых преданий. Известно, какой почет оказывал протестантизм трудам бл. Августина. А разве схоластическая демонология не представляла собой только неумолимо логического, последовательного развития взглядов, которые царили в римском обществе в эпоху бл. Августина? Что же касается, в частности, процессов ведьм, то в протестантстве ученые не находили даже нужным замалчивать свое согласие со своими католическими предшественниками, как они это делали нередко в других случаях. Самый известный из позднейших противников гонения на ведьм в Германии, Христиан Томазий, прямо бросает в лицо протестантским теологам упрек, что они все свои аргументы в пользу реальности ведовства списывают у «папистов» и что они не стесняясь ссылаются на Фому Аквинского, на Бонавентуру и на кардинала Торквемаду, хотя в других случаях они сами же их проклинают, как исказивших чистое Евангелие софистов. И новые издания «Молота ведьм», начавшия выходить в свет с последней трети XVI века, шли не в одни католические руки. У протестантских юристов книга эта тоже считалась в ведовских делах первым авторитетом. Прямое ее влияние на выработку форм ведовского процесса в протестантских судах XVI и XVII веков стоит вне всякого сомнения. И если светские суды после окончательного торжества протестантизма стали пытать и жечь ведьм с такою ревностью, какой они не проявляли при жизни Иннокентия VIII и Шпренгера с Инститорисом, то главным новым условием является здесь не Лютерово учение о несвободе воли и не личное суеверие вождей протестантизма. Видный юрист XVI в. Ульрих Тенглер внес в свой упомянутый нами Laienspiegel главу о ведовских делах не сразу. Он сделал это лишь по настояниям своего клирика–сына. Сын указал ему для этого и материалы. Рукою сына, как можно думать, и редактирована была эта глава. Тенглер–отец, как и другие его коллеги того времени, чувствовал еще себя чуждым такого рода «теологическим» вопросам. Но надо видеть, с какою свободой и уверенностью толкуют о всех относящихся к ведовству вопро–сах светские юристы «теологического» века — того периода, когда даже самые мирские правительственные указы нередко предварялись пространными религиозно–нравственными рассуждениями. Practica Nova rerum criminaJium Бенедикта Карпцова, этого типичного протестантского юриста своего времени, который, по преданию, в своей жизни 53 раза перечитал всю Библию с начала до конца и утвердил 20 000 смертных приговоров, в отделе, посвященном ведьмам, могла бы сделать честь любому профессиональному теологу. Карпцов самостоятельно тут мыслит во всех вопросах — даже в том, могут ли от чертей рождаться дети. Наиболее правильным он находил здесь взгляд, что хотя от такого блуда рождаться кое–что и может, но совершенно непутевое: хорошего ребенка от беса не бывает. И при этом Карпцов почерпал свою премудрость главным образом вовсе не у «божественного Лютера», с которым он позволяет себе тут расходиться в некоторых пунктах. Главным его материалом являлись католические писатели в этом вопросе; все враждующие толки дружелюбно протягивали друг другу руку. За Карпцовым же и другими подобными авторитетами шли ученики, которые в университете школьным порядком усваивали себе эти переработки старого «Молота ведьм» и которые, кончив университет, садились на судейское седалище с готовностью действовать в ведовских делах решительно и строго. Так создавалось в этой области совершенно безвыходное с виду положение. Цензура, которую тогда обычно держали в своих руках университеты, строго преследует всякую печатную строку, отзывающуюся «адемонизмом». «Сомневаться в существовании бесов — значит думать, как атеисты, язычники и турки». При таком гонении на всякий, даже самый робкий, скептицизм успехи культурной техники, как рост грамотности и развитие печатного дела, только способствуют широкому развитию демономании. Книжный рынок в конце XYI и в начале XVII века переполнен повестями о чертях, волшебниках и ведьмах — частью духовно–нравственного, частью же и просто базарного, спекулятивного характера. Простолюдины знают теперь больше историй про бесов, чем знал их в свое время ученый монах Цезарий. В школе учение о договоре с сатаной задалбливается при толковании десяти заповедей.