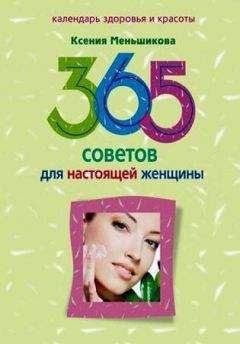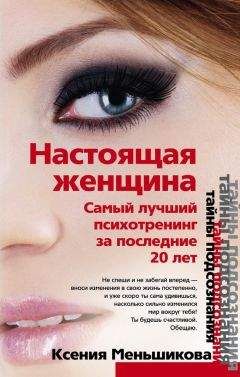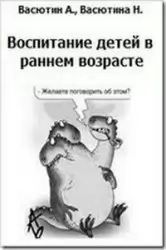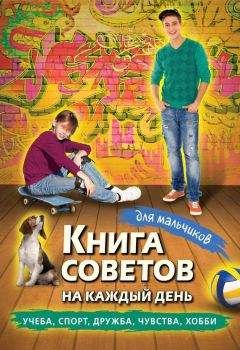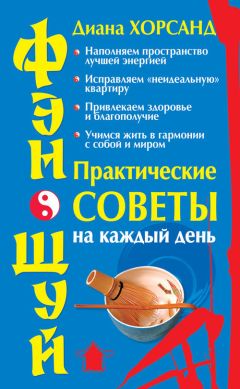Игорь Смирнов - Психодиахронологика: Психоистория русской литературы от романтизма до наших дней
2.2.2. Сообщая значимость лишь иному, зачеркивая данное, Пастернак проводил мысль о том, что для книги нет мира, что она сосредоточена на самой себе:
Книга — как глухарь на току. Она никого и ничего не слышит, оглушенная собой, себя заслушавшаяся.[462]
Если социофизическая реальность и сравнима со знаковым универсумом, тогда с таким, в котором она исчезает как реальность, — с несуществующей книгой:
Громом дрожек, с аркады вокзала.
На краю заповедных рощ,
Ты развернут, роман небывалый.
Сочиненный осенью, в дождь;
с запрещенным, изгоняемым из обращения текстом:
А сверху на простор
Просился гор апокриф;
с сочинением, прочитанным до конца и к тому же возвещающим конец того, кто его читает:
Но книга жизни подошла к странице,
Которая дороже всех святынь.
Сейчас должно написанное сбыться,
Пускай же сбудется оно. Аминь.
Объединимость мира с книгой преподносится Пастернаком как чудо, аномалия, отклонение от естественного порядка вещей:
Я видел, чем Тифлис
Удержан по откосам <…>
Он был во весь отвес,
Как книга с фронтисписом,
На языке чудес
Кистями слив исписан.
2.2.3. В поэзии Маяковского, где иное врастает в данное, книга составляет часть мира, жизненного обихода. Книга мира — это вывеска:
Читайте железные книги!
Текст, порабощенный социофизической средой, имеет лишь практическую функцию, утилитарен:
А себя, как я, вывернуть не можете,
чтобы были одни сплошные губы!
Приходите учиться <…>
Которая губы спокойно перелистывает,
как кухарка страницы поваренной книги.
2.2.4. Постоянное стремление Хлебникова вмещать данное в иное, вело его к представлению о том, что мир интегрирован в книге. Хлебниковская парадигма мотивов мир-книга была исчерпывающим образом описана в статье А. А. Хансен-Лёве[463], откуда мы заимствуем приводимые ниже примеры.
По Хлебникову, природные элементы располагаются на страницах мировой книги:
Эту единую книгу
Скоро ты, скоро прочтешь!
В этих страницах прыгает кит
И орел, огибая страницу угла,
Садится на волны морские, груди морей,
Чтоб отдохнуть на постели орлана, —
а наше восприятие реалий подобно чтению сообщений:
И я забыл прочесть письмо зари;
А ветер — доставит записку.
На поиск! На поиск!
Пропавшего солнца;
Толстый священник сидел впереди,
Глаза золотые навыкате,
И книгу погоды читал.
Мир развертывается во времени, записываясь в книгу; космос размещается на книжной полке:
Как грустен этот мир.
Время бежит — перо писарей <…>
Ах, если б снять с небесной полки
Созвездий книгу,
Где все уж сочтено.
Мир-в-книге — сам себе автор, писатель и его творение в одно и то же время:
Почерком сосен
Была написана книга песка,
Книга морского певца.
У рыбы есть тоже Байрон или Гете
И скучные споры о Магомете!
О Достоевский — мо бегущей тучи!
О Пушкиноты млеющего полдня!
Ночь смотрится, как Тютчев,
Замерное безмерным полня.
Последнее четверостишие представляет для нас особенный интерес, поскольку в нем Хлебников четче, чем где-либо еще, сформулировал свою общую логико-смысловую программу: потустороннее («замерное») бесконечно («безмерно»), не оставляя никакого места посюстороннему.
2.3.1. Последовательность «из жизни — смерть» развертывается Северяниным с тем, чтобы так или иначе опустошить импликат, ее конечный пункт:
Меня положат в гроб фарфоровый,
На ткань снежинок Яблоновых,
И похоронят (…как Суворова…)
Меня, новейшего из новых <…>
Всем будет весело и солнечно,
Осветит лица милосердье…
И светозарно, ореолочно
Согреет всех мое бессмертье![464]
В другом стихотворении («И рыжик, и ландыш, и слива») Северянин распространяет мысль об аннулируемости смерти на все сущее:
Все в мире приходит к гробам <…>
Мы все, будет время, погибнем <…>
Но помни: Бессмертное — живо!
Стремись к величавой мечте![465]
2.3.2. В разительном контрасте с Северяниным Пастернак интерпретирует смену жизни смертью так, что рисует конец лирического субъекта уже наступившим, уже испытанным до прихода действительного конца. Авторефлексируя, лирический субъект Пастернака покидает сферу жизни:
Я в мысль глухую о себе
Ложусь, как в гипсовую маску.
Порождение текста означает гибель его автора:
О, знал бы я, что так бывает,
Когда пускался на дебют,
Что строчки с кровью — убивают,
Нахлынут горлом и убьют!
Стихотворный текст описывает агонию лирического «я» (ср. цитировавшееся выше стихотворение «В больнице»), представляет собой прощание поэта с жизнью («Август») или призывание им скорейшей гибели:
Рослый стрелок, осторожный охотник,
Призрак с ружьем на разливе души! <…>
Целься, все кончено! Бей меня влет.
Нужно, однако, учитывать, что мотив жизни берется Пастернаком и вне связи со смертью (например, в сборнике «Сестра моя — жизнь») и в этом своем качестве требует специального разбора, который мы здесь не будем производить.
2.3.3. Психо-логика, свойственная Маяковскому, понуждала его видеть в смерти одно из интегративных слагаемых жизни. Смерть неотменяема (в этом Маяковский расходится с Северяниным), но вместе с тем она не ведет к тому, что мертвое выкидывается из жизненного хозяйства. Мертвый поэт подобен в последних стихах Маяковского («Во весь голос») «римскому водопроводу», уцелевшему до «наших дней». В поэме «Человек» самоубийца может вернуться в мир живых, стать его частью. К тому же и мир мертвых, куда поначалу попадает покончивший с собой лирический субъект, ничем не отличается от среды, где обитают живые:
Здесь,
на небесной тверди
слушать музыку Верди?
Жизнь завершаема, но это — не полный ее конец. В стихотворении «Чудовищные похороны» Смех, как это ни парадоксально, еще участвует в самопогребении:
Смотрите: в лысине — тот —
это большой, носатый
плачет армянский анекдот.
Еще не забылось, как выкривил рот он,
а за ним ободранная, куцая,
визжа, бежала острота.
Куда — если умер <Смех. — И.С.> — уткнуться ей?
2.3.4. Как мы уже могли наблюдать на примере сценки Хлебникова «Мирсконца», жизнь у него выводится из смерти (детство героя здесь следует за старостью)[467]. Функция поэта, с хлебниковской точки зрения, — вкладывать живое в того, кто уже умер:
Мой разум, точный до одной энной,
Как уголь сердца, я вложил в мертвого пророка…
В мертвой голове поэта (в «черепе») слова и мысли оживают, приходят в движение, обретают творческую энергию:
Мой череп — путестан, где сложены слова,
Глыбы ума, понятий клади <…>
Рабочие, завода думы жители,
Работайте, косите, двигайте!
Давайте им простор, военной силы бег
И ярость драки и движенье.
Живое происходит на свет из мертвого. Женский организм, дающий жизнь, — это тело террористки, сеющей вокруг себя смерть: