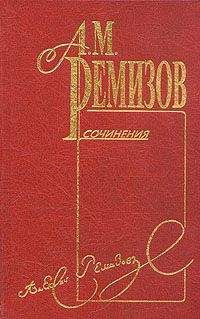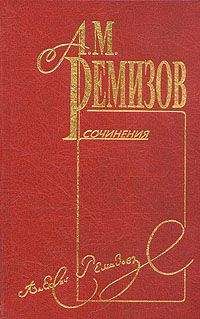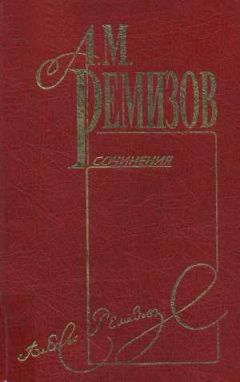Елена Обатнина - Алексей Ремизов: Личность и творческие практики писателя
Свободно оперируя литературным материалом, Ремизов создает принципиально новую повествовательную ткань. Колоритным примером творческой переработки такого рода является коллаж, созданный на темы Достоевского. Мотивы, характеризующие визуально-звуковой строй романа «Идиот», неразрывно соединены в этой зарисовке с элементами биографии его автора и дополнены собственными ремизовскими аллюзиями: «И все овеяно музыкой. Попурри из итальянских опер — Риголетто, Трубадур, Гугеноты, барабанная Сорока-Воровка и русская мешанина (Павловский вокзал); манящие воздушные лебединые руки — баллады Шопена, сиплый бас — военно-вакхическая песня (генерал Иволгин), „Со святыми упокой“ по „отстреленной“ ноге — доносит панихиду с Ваганькова из Москвы с цыганскими „полями да метелица“ и венгеркой Аполлона Григорьева; и вдруг вырвавшаяся песня, и единственный раз, ее поет молчаливая Мари, и злой свист камней в „гадину“ и „паука“ — в эти тихие, невинные глаза; „Надгробное рыдание творяще песнь…“ „И Дьявола упразднивый…“ — Троицкий собор, отпевание Русского Фальстафа и реквием — из швейцарской деревенской церкви; беснующееся гнусавое „шаривари“ и сквозь бряз и бурение охрипших скрипок нашептывание золотой мечты: „Жил на свете рыцарь бедный…“; лязг гильотины и сап намыленной веревки, шурш скорпиона и жужжит муха; и на мгновение все и тихо и мертво, и в это мертвое — зарезанное — в эту зеленую зоркую луну под хлест плетки исступленная с фарфоровой россыпью молитва к Звезде-надзвездной: „Матушка („Царица Небесная!“) Королева! Сто тысяч, сто тысяч! Матушка! Повели мне в камин: весь влезу, всю голову свою седую в огонь вложу… Больная жена без ног, тринадцать человек детей — все сироты, отца схоронил на прошлой неделе, голодный сидит, Настасья Филипповна!“ — „Прочь!“ и в заклубившемся вихре под колокольчик троек, вихрем захлебывая звуки, один над всеми голос — этот нечеловеческий, воплем исшедший из рассеченной души, озаренный не вечерним первосветом, жизнью всякой жизни — голос человеку, всему человеку, невыносимый: Великий — и грозный — Дух»[613].
Перестраивая и переосмысливая исходный литературный материал, объективируя подспудные процессы восприятия того или иного классического произведения, писатель лишал его привилегий завершенного творения. Безусловно, такой подход не мог не отражаться напрямую и на собственно ремизовском нарративе. Именно поэтому соотнесение текста «Огня вещей» с каноническими жанровыми формами заведомо нарушает читательские ожидания, позволяя переосмыслять рассматриваемые произведения каждый раз заново, высвобождаясь из тисков знакомых значений и смыслов, и в таком полете свободной фантазии «забывать» даже об их авторстве. Книга содержит множество регистров (литературоведческий, мифологический, автобиографический, игровой, философский, мистический), обеспечивающих функционирование самых разных и «противоречивых» по отношению друг к другу дискурсов. Тем самым подчеркивается коллажный принцип, положенный в основу повествования. Отношение Ремизова к художественной литературе вполне мифологично: писатель в буквальном смысле слова собирает из фрагментов классической прозы новую реальность. Выделяя особый жанр сновидений, он причислял к нему не только вставные новеллы или сюжеты, изложенные в виде снов отдельных персонажей, но и те произведения, которые не содержали формальных признаков сна. В частности, Ремизов обнаруживал эти признаки в скрытом виде практически во всем творчестве Гоголя и Достоевского. В своем докнижном бытии очерки из «Огня вещей» напоминают коллекцию, которая потенциально может трансформироваться, дробиться, перестраиваться, обновляться, комбинироваться с другими элементами подобных же коллекций. Именно благодаря такой подвижности, некоторые эссе оказались задействованы автором также и в книгах «Учитель музыки» и «В розовом блеске». Более того, перманентный процесс переписывания, изменения вариантов и редакций даже после опубликования их в периодической печати создавал непосредственный эффект открытого нарративного пространства, которое существовало словно бы вне авторской иерархии идей и творческих целей.
Игра фантазии раскрывала простор для свободного воображения, в ее развитии не только осуществлялось познание данного художественного мира, но и рождалась принципиально новая онтологическая структура. Согласно Гадамеру, «преобразование в структуру <…> — это преобразование в истинное, а не очаровывание в смысле колдовства, ожидающее слова, освобождающего от чар; оно само — освобождение, возвращение в истинное бытие. Представление игры выявляет то, что есть. В нем выдвигается и выходит на свет то, что в других условиях всегда скрывается и ускользает»[614]. Многочисленные свидетельства использования познавательного и творческого алгоритма игры находим в письмах Ремизова к Кодрянской: «Завтра вернусь к Ноздреву. Буду мучиться не над словами и как их разместить — слова и порядок слов, все у Гоголя — а построением из этих слов: я хочу представить по Гоголю такого Ноздрева, которого почувствовал Гоголь но не ВЫСКАЗАЛ или сказал не по своему чувству…»[615] «Продолжаю Воскрешение мертвых (Мертвые души). — <…> иду медленно, упорно, рисую с подписями… <…> Ноздрев рассказывает о голубых и розовых лошадях — и все гогочут: „врет все“, — чувствуете, ведь это совсем не тот Ноздрев, каким его принято представлять. Моя задача, так оно само выходит, изглубить Гоголя, не повторяя никаких учебников»[616]. В процессе подобного герменевтического постижения сущности художественного произведения снимались стереотипные представления, заученные характеристики, отбрасывалось все искусственное и лишнее. Подражание литературной реальности вело к ее пониманию и объяснению.
К художественному пересказу писатель обращался в первую очередь для осмысления произведений Гоголя и его биографии. Ремизовская гоголиана на протяжении всех тридцати пяти лет работы над книгой осуществлялась как «непрямая форма исповеди»[617] и представляла собой оттиск классической русской литературы в сознании человека XX-го столетия. Писатель был убежден, что его собственное творчество восходит к Гоголю, и ремизовская интерпретация жизни и творчества Гоголя обнаруживала сродство двух дарований, их духовную общность. Субъективная оценка судьбы, личности и творчества русского классика превалировала здесь над фактами его жизни, порою даже пренебрегая их достоверностью, давала возможность читателю ощутить тему Гоголя, установившийся между ним и автором книги духовный контакт. В «Райской тайне» (1932), «Серебряной песне» (1934), «Сверкающей красоте» (1935), следуя за Гоголем, повторяя слово за словом, выстраивая и переплетая собственные видения со сновидениями, взятыми из классических текстов, Ремизов достигал подлинного искусства. В обычном пересказе, построенном на вариативной контаминации гоголевских тропов, перетасовке целых фрагментов, переводе повествования от третьего лица в монолог, проявлялась необычайная раскованность автора «Огня вещей» в работе с чужими текстами и обнаруживалась его уникальная способность мимикрировать к инородной художественной ткани. Впрочем, Ремизов никогда не скрывал свою очарованность гоголевской языковой стихией: проводя через сознание, слух и воображение каждое слово и каждый образ, он «с головой» окунался в любимые произведения. Оттого так достоверно звучала его самооценка многолетней работы по интерпретации «Мертвых душ»: «сейчас я над и в Чичикове»[618].
На страницах книги Ремизов позволял себе не только вступать в диалог со своим великим собеседником, но и оспаривать и даже подвергать сомнению его художественный замысел. Бесцельный мечтатель Манилов неожиданно преображался в «скромного, образованного офицера», причастного к «Союзу благоденствия», вынужденного после декабрьских событий подать в отставку и отбывать ссылку в своей деревне. Защищая героя, не одним поколением читателей презираемого, да и самим его творцом высмеянного, Ремизов затевал с автором «Мертвых душ» вполне предметный спор:
«Гоголь: „у каждого есть задор: собашники, лошадники, знакомство с высокопоставленными лицами, „раболепство“, наконец, свистнуть кого-нибудь в морду, а Манилова характер — без задора.
— Николай Васильевич! а маниловское „парение“, то, что зовется „маниловщиной“, а по Герцену и Бакунину „прекраснодушие“. И „доверчивость“, за что он прослыл „дурачком“: все, кого он ни встречает, „прекрасные люди“, в каждом человеке он чувствует человека, без рассуждения, сердцем. И эта его человечность, это ль не задор?“»[619]
Воплощая в реальность свой замысел, Ремизов хорошо понимал, что преисполненную поучительного смысла жизнь Гоголя невозможно заключить в рамки хронологического рассказа, подтверждаемого документальными свидетельствами: «Знание, как итог только фактов, не может дать исчерпывающего представления о человеке, в протокольном знании нет живой жизни. Только бездоказательное, как вера, источник легенд, оживит исторический документ, перенося его в реальность неосязаемого мира»[620]. Калейдоскопический дискурс включал в себя, помимо русской классики, еще и отображение ремизовских фантазий, домыслов, догадок и даже «снов». Почти буквальное «присвоение» (незаметная обработка, мельчайшие дополнения) «чужого» текста позволяли писателю совершать мгновенные метаморфозы, то преобразуясь непосредственно в героев повествования, то вновь возвращаясь к собственному «Я». Позволяя классическому тексту играть новыми смыслами, Ремизов уже в собственном сознании открывал новые горизонты бытия: «Манилов прошел к себе. Уселся в кресло. Закурил. И думал о Чичикове, радуясь, что доставил ему небольшое удовольствие. Если бы им жить вместе, незаметно проходили бы часы деревенской скуки, изучали бы какую-нибудь науку — памятники древней русской письменности, словарь Даля, и потом рассуждали бы о мыслях и словах»[621].