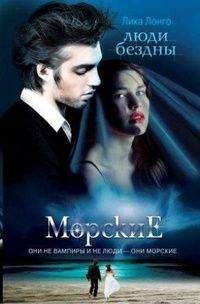Лорен Грофф - Тайны Темплтона
Глава 20
БЕЗЫМЯНКА
Сначала было «до», потом «после».
«До» было огромным. Я бежала по траве среди деревьев, и сучки больно кололи ноги. Мое племя беззвучно пробиралось в ночи, преследуемое чем-то темным и дурным. А еще помню себя рядом с матерью — как сидели мы, склонив головы над «Королем Яковом»[5], над страницами, похожими на листы выделанной кожи, и как палец ее водил по словам, что шептала она мне в самое ухо. «И земля тогда еще не имела формы, была она просто пустотой; и бездонная тьма выступала на поверхности глубин. И Дух Божий витал над этими бескрайними водами». Эти странные чужие слова слетали с ее губ, и звуки эти были как сверкающая чешуей рыба. Вот мать гладит меня по щеке и обнимает крепкой своей рукой. А лицо отца все печальнее и печальнее.
«После» было по семь шагов в каждом направлении — коричневый земляной пол хижины, пропахшей мясом и духом человеческой плоти. Тесная грязная комнатушка, где никому не было до меня дела, где никто ни разу не прикоснулся ко мне и где кожа моя так изнывала по человеческому теплу. Темнота и сладковатый дым трубки, что курил Дэйви, его чудной приглушенный смех и дедовы травы, развешенные сушиться под потолком. Одна в этой хижине целыми днями напролет, и только звуки гудящего внизу города, невидимого, но такого живого и манящего. «После» оно было как оленья линька раз в год; дед у очага как хлопающий крыльями филин. Руки его проворными птицами снуют туда-сюда — плетут, шьют, чинят, латают. Перевернутый рожок месяца над озером. И я тоскую по синеве неба в этой хижине, которую не могу оставить. Тоскую и молчу.
А озеро полно шорохов и звуков, полно бесконечных мерцающих огней.
Между «до» и «после» была история моего деда — он плел ее как косу, прядь за прядью. Он рассказывал ее долгими вечерами у дымного костра, степенно, неторопливо, всякий раз начиная со слов: «Отцом твоим, жавороночек мой, был вождь Ункас, а матерью твоей была Кора Манро. Многие годы твоему племени угрожали колонисты, поселившиеся на западном берегу озера. У них были ружья, и твое племя вынуждено было уходить глубже в леса».
Мой дед всегда говорил, что когда-нибудь я найду своих родителей.
Была осень, когда Дэйви и мой дед ушли на запад от озера искать мою семью, чтобы провести остаток своих дней с племенем. Но везде они находили только теплые еще угли костра и запах людей в воздухе. Последний раз они опоздали всего на несколько часов, и стан уже был припорошен снегом. Все было припорошено снегом — и младенцы, насаженные на штыки, и головы их матерей с мертвыми пустыми глазницами. Были там мои отец и мать, голые к обугленные, в объятиях друг друга. Ункаса удалось узнать только по томагавку за плечами, Кору — только по отцовскому перстню с печаткой, зажатому в руке.
Дед мой чуть не лишился жизни, когда увидел их. Они с Дэйви плакали, когда копали мерзлую землю, и похоронили каждого.
А позже, когда пришла ночь, дед молился у костра за их души. И тогда я, голенькая и посиневшая от холода, с окровавленным лицом и ногами, выбежала из зарослей и бросилась к огню. В глазах моих дед узнал моего отца, и в моем щуплом детском тельце — мать. И несмотря на горе, превратившее его в камень, он чувствовал, как жизнь вновь загорается в нем. Замерзшими пальчиками я потянулась к жарившейся на вертеле ондатре и, отщипнув кусочек еще сырого мяса, затолкала его в рот. Дед бросился вытаскивать его у меня изо рта и ужаснулся, так как не мог понять, где мясо, а где язык. Во рту у меня было сплошь кровавое месиво. Я откусила себе половину языка. А было мне четыре годика.
Они вернулись в Темплтон и, не зная моего имени, временно окрестили меня Безымянкой. А я была немая и не могла сказать им свое имя. Другого имени мне так и не придумали. Из дома меня никуда не выпускали, так как женщин было мало в тех краях, а индианок и вовсе не считали там за людей. Страшно было представить, что сотворили бы даже с такой маленькой девочкой изголодавшиеся по женской плоти поселенцы, попадись я им на глаза. Так говорили дед и Дэйви, но мне тогда было невдомек, что они имели в виду, пока однажды я не узнала это на своем опыте.
А та ночь осталась у меня в памяти, хотя и какими-то обрывками — словно вспышки молний во тьме. Тот последний вечер с матерью и отцом, холодный и тихий вечер, когда мы нашли место для стоянки и начали разбивать лагерь. Я утащила у матери книжку и разглядывала ее, пока мать разговаривала с другими скво. И вдруг отец обернулся, издал боевой клич и ринулся куда-то. А потом смятение, шум, крики, лошади и люди, кровь. Какой-то поселенец повалил меня на холодную землю, я помню боль и фонтан крови на том месте, где только что была его голова, и помню отца с окровавленным томагавком, помню, как он унес меня оттуда под мышкой и подсадил повыше на дерево. А потом крик матери, отец бросился к ней, а я осталась на дереве как была, с книжкой в руке. Все полыхало вокруг, а потом наступила тишина. Долгая, нескончаемая тишина. Целую вечность сидела я на том дереве.
Когда я спустилась вниз, костер деда закружился у меня перед глазами. От запаха ондатры на вертеле меня пробила дрожь. Пока шла к костру, я выплюнула мясо, что нашла у себя во рту. Это был мой собственный язык.
Так огромный мир, в котором я доселе жила, сузился до крохотного и тесного, такого тесного, что даже самые крохотные вещи там становились огромными. Дважды в день еда, и каждая как праздник. Когда дед рассказывал истории, это было как упоительный восторг, как танцы, которые я смутно помнила, ножные танцы у костра. Моими друзьями были мухи, а братьями — собаки, и я часами глядела в окно, любуясь ползущими изменчивыми облаками и тенью, которую они отбрасывали на лес. Все эти годы сидела во мне пустота, яйцеобразная пустота и боль, и время тянулось долго, как нескончаемая ночная тьма. Я предавалась мечтам и плела корзиночки и все время смотрела на свою книгу в коричневых пятнах крови, а потом Дэйви дал мне какие-то письма и я научилась читать. Медленно, мучительно я читала о событиях, которых не могла до конца понять.
Старый чудак Дэйви был моим суженым. Я знала это всегда — слышала, как они с дедом это говорили. И он был так добр ко мне, обращался со мной бережно — только бы не посмотреть на меня лишний раз, не коснуться, особенно когда я уже выросла. Но он отдавал мне свое сердце — в похлебке, которую варил, и вместе с первым весенним цветком, трепетавшим, когда он дарил его мне. Он был мне настоящим дядюшкой, а в двенадцать лет я задумалась над тем, что такое муж. Однажды, когда Дэйви еще не вернулся с охоты, я спросила у деда, спросила знаками, как он учил меня, но он только пыхтел своей трубкой и смотрел на меня молча, пока я угрюмо не ушла в сторонку. Мне хотелось зашвырнуть куда-нибудь подальше эту его трубку, но вместо этого я ласкала за ушки щенка.
Тогда я только притворялась, что мне хорошо, но хорошо мне не было.
Я старалась держаться поближе к двери, а наружу было нельзя — накажут. Только через два года, когда мне было шесть, я осмелилась высунуть за порог ножку, даже не ножку, а только мысок. И целый год, когда дед уходил в город продавать свои корзины, а Дэйви охотился в лесах, я грела мысочки на ласковом теплом солнышке. И по ночам я еще чувствовала в пальцах это дневное тепло, и в душе моей тогда бушевала необузданная радость. Дед смотрел на меня, и я отворачивалась, и Дэйви сидел рядышком, рассказывал, курил в тепле и уюте и ничего не замечал.
Через год я осмелела и высунула за порог плечо и всю ногу целиком, подставив их ласковому ветерку. А еще через год или два я уже выходила постоять в соснах и, как пугливая олениха, прислушивалась там к каждому шороху и, только заслышав шаги Дэйви еще в полумиле от дома, бегом мчалась обратно в хижину. Когда меня спрашивали, не хочу ли я еще печеной картошки или кленового сиропа, я частенько говорила обратное, скрывая свои желания и храня эту свою маленькую ложь внутри как теплый камушек. А потом по ночам, лежа без сна, беззвучно смеялась. И неделями, искупая стыд, вела себя прилежно — убирала хижину, плела корзиночки. А затем все повторялось снова — я снова лгала, и дед внимательно смотрел на меня, и я, пристыженная, снова становилась прилежной.
На десятом году жизни я отважилась сделать двадцать шагов к озеру, которое манило меня и пело на все лады. Ветерок подгонял меня, терся о мою кожу. Упоенные букашки резвились в траве, и я любовалась их весельем. Этот огромный мир вокруг казался мне таким многообразным, а тот другой мир, в чьи тесные пределы я была заключена, душил меня и давил своей тяжестью.
В одиннадцать лет я уже ходила к озеру, босыми ногами чувствовала тепло земли, и от восторга мне хотелось плакать. А однажды я зашла прямо в воду, зашла по колено и так испугалась собственной смелости, что не делала так больше до двенадцати лет, когда все во мне вдруг изменилось, когда кожа моя кое-где начала пылать и когда Дэйви совсем перестал смотреть в мою сторону. И это ощущение чего-то огромного и необузданного все росло во мне, и долгими зимними вечерами я все пыталась представить себе, что будет, если я тихонько скользну к Дэйви под одеяло. От этих мыслей мне становилось стыдно, я ловила на себе взгляд деда и заставляла себя думать о чем-нибудь другом.