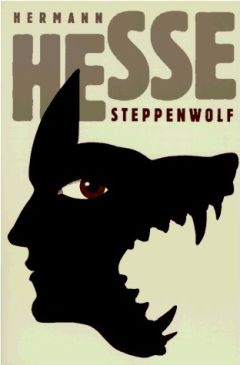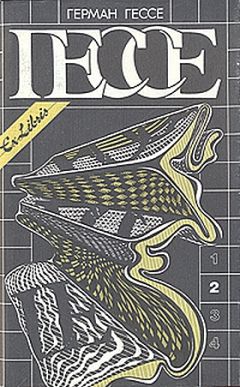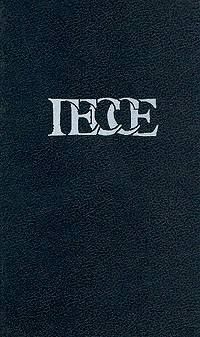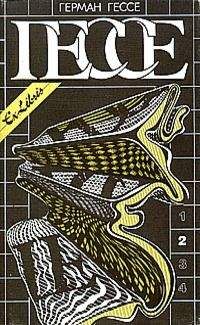А. Злочевская - Три лика мистической метапрозы XX века: Герман Гессе – Владимир Набоков – Михаил Булгаков
Сновидец у Достоевского приравнивается к великим художникам, а вся картина, увиденная во сне, – к произведению искусства. Возникает концепция сновидческой реальности, предвосхитившая набоковский металитературный «организованный сон»– симбиоз реальности-воображения-памяти [Н1., T.4, c.345–351][47].
Примечательно, что в моменты рассуждений о художественных снах, столь значимых с точки зрения определения специфики эстетического мироощущения писателя, происходит одна из метаморфоз лика повествователя вполне в духе метафикшн, когда он открыто проявляет себя как Автор текста. В «Преступлении и наказании», где наррация максимально объективна и ведется от лица повествователя безличного, это ощутимо особенно резко, на грани эстетического шока. А вот в «Идиоте» Автор обнаруживает себя не только в пассажах о художественных снах, но, уже совершенно открыто, в рассуждениях о человеческих и художественных типах.
«Есть люди, о которых трудно сказать что-нибудь такое, что представило бы их разом и целиком, в их самом типическом и характерном виде; это те люди, которых обыкновенно называют людьми „обыкновенными“, „большинством“, и которые, действительно, составляют огромное большинство всякого общества. Писатели в своих романах и повестях большею частию стараются брать типы общества и представлять их образно и художественно, – типы, чрезвычайно редко встречающиеся в действительности целиком и которые тем не менее почти действительнее самой действительности <…> …Не вдаваясь в более серьезные объяснения, мы скажем только, что в действительности типичность лиц как бы разбавляется водой, и все эти Жорж-Дандены и Подколесины существуют действительно, снуют и бегают пред нами ежедневно, но как бы несколько в разжиженном состоянии. Оговорившись, наконец, в том, для полноты истины, что и весь Жорж-Данден целиком, как его создал Мольер, тоже может встретиться в действительности, хотя и редко <…> Тем не менее, все-таки пред нами остается вопрос: что делать романисту с людьми ординарными, совершенно „обыкновенными“, и как выставить их перед читателем, чтобы сделать их хоть сколько-нибудь интересными? Совершенно миновать их в рассказе никак нельзя, потому что ординарные люди поминутно и в большинстве необходимое звено в связи житейских событий; миновав их, стало быть, нарушим правдоподобие. Наполнять романы одними типами или даже просто, для интереса, людьми странными и небывалыми было бы неправдоподобно, да, пожалуй, и не интересно. По-нашему, писателю надо стараться отыскивать интересные и поучительные оттенки даже и между ординарностями <…> К этому-то разряду „обыкновенных“ или „ординарных“ людей принадлежат и некоторые лица нашего рассказа» [Д., T.8, c.383–384].
Перед нами типичный для метапрозы выход Автора на уровень героя.
Образ повествователя в романах Достоевского вообще чрезвычайно оригинален. В нем, как правило, соединены несколько ликов рассказчика: объективный, безличный; персонифицированный – герой или персонаж романа; собиратель слухов и, наконец, собственно Автор. Все ипостаси соединены в одно целое фигуры повествователя и, сменяя друг друга или даже наплывая одна на другую, организуют нарративный пласт романа. Скажем, в «Преступлении и наказании» безусловно доминирует маска повествователя объективно-безличного, а в «Подростке», напротив, рассказчик – сам главный герой, а свое неприсутствие в некоторых сценах он компенсирует информацией с чужих слов. В «Идиоте» рассказчика объективного сменяет собиратель слухов, а в отдельные моменты обнаруживает свой лик Автор. В «Бесах» формально повествование ведет Хроникер – персонаж и участник романного действия, а также собиратель слухов. Но есть в романе несколько моментов – например, вся сцена «У Тихона», – где повествование ведется от лица всезнающего объективного рассказчика, ибо в поле зрение Хроникера она попасть не могла никоим образом. Есть еще один момент – посещение Ставрогиным Марии Тимофеевны в главе «Ночь», когда объективный повествователь словно продолжает рассказ Хроникера[48]. Наконец, в «Братьях Карамазовых» все нарративные потоки, лики и маски соединены в органичное целое.
Так сложное взаимодействие нескольких масок творит образ повествователя, который проявляет себя как нарративный прием, во всем многообразии своих потенций – от рассказчика безлично-объективного до самостоятельного персонажа. Это некий энергетический сгусток, сотканный из подходящей словесной массы, лексической и стилистической, и готовый воплотиться в любой образ.
Аналогичен, как я покажу позднее, и образ рассказчика – повествователя – Автора у Булгакова в «Мастере и Маргарите» и у Набокова в «Даре».
Итак, поэтике Достоевского, как видим, свойственны черты, предвосхитившие эстетику металитературы:
– паритетные отношения между двумя реальностями – художественной и материально-физической;
– художественный образ как литературно-документальная амальгама;
– напряженная интертекстуальность;
– выход Автора на уровень романного действия – «авторские вторжения»[49].
Конечно, есть принципиальное различие между эстетикой автора «Братьев Карамазовых» и представителей метапрозы XX в. Для Достоевского-художника сотворение новых интертекстов, сверхнасыщенных историко-культурными и литературными аллюзиями, не самоцель, а средство постижения глубинных законов бытия человеческого духа. Сочинительство как игра не его стихия, хотя на подсознательном уровне он, конечно же, homo ludens, как и всякий художник.
Нет, Достоевский никогда не обнажал сочиненность происходящего в своих романах. В эпоху расцвета классического реализма – его «золотого века» – подчеркивать «сделанность» своих произведений было немыслимо: это значило бы сознательно выставить себя на всеобщее осмеяние и подвергнуться остракизму. Однако писатель явно следует не канонам мимесиса «жизни действительной», но «жизнетворчества»: он творит «вторую реальность» художественного текста, создавая насыщенные историко-культурные и литературные аллюзийно-реминисцентные образы. Метаповествование, хотя и не является доминантой характеристикой творческого стиля автора «Братьев Карамазовых», тем не менее проявляет себя в его художественных сочинениях вполне отчетливо.
В результате рождается стиль совершенно оригинальный: в основе его – высокое напряжение между видимым стремлением к созданию «жизнеподобной» реальности и, по существу, метапоэтикой.
Сильное влияние если не творческой личности Достоевского, то его художественного стиля испытали на себе и Гессе, и Набоков, и Булгаков, хотя, как известно, по-разному к нему относились.
Если влияние Достоевского на творчество Гессе и Булгакова сомнений не вызывает, то в случае Набокова оно кажется весьма проблематичным. И все же, несмотря на субъективное неприятие Достоевского, Набоков развивался в русле его литературной традиции, унаследовав экзистенциально-философскую ориентацию творчества, самый комплекс «вечных» вопросов, которые поставил перед человечеством его великий предшественник, а во многом и этический вектор их решения[50].
Различен и аксиологический аспект восприятия творчества творца «Братьев Карамазовых». Если для Булгакова Достоевский – ориентир бесспорно положительный, то для Набокова – столь же безусловно отрицательный.
Противоречивым принято считать и отношение к Достоевскому Гессе[51]. Во многом такое мнение, безусловно, оправданно. Надо, однако, заметить, что позиция писателя со временем менялась.
В знаменитом эссе «„Братья Карамазовы“, или Закат Европы» (1919) Гессе воспринимал творчество Достоевского по преимуществу в аспекте культурологическом и в меньшей мере эстетическом. В этом отличие европейской инонациональной рецепции от «своей» у Набокова и Булгакова, которые видели в Достоевском прежде всего феномен художественный (Набоков – «ужасный», Булгаков – великий).
В глазах Гессе мир Достоевского воплощает собой законченный образец отказа
«от любой твердо установленной этики и морали в пользу некоего всепонимания, всеприятия, новой, опасной, страшной святости»[52].
Герои здесь «характеризуются не свойствами, а способностью в любой миг обрести любое свойство»[53].
«Новый идеал», явленный Европе Достоевским и вызвавший у нее восхищение, на самом деле есть моральный хаос, «тревожный, опасный момент неизвестности на переходе между ничто и всем»[54]. Морально-психологический беспредел Достоевского несет с собой великую угрозу европейской цивилизации. Если европейская культура воплощает собой начало отцовское – это порядок и разум, то азиатская модель – это хаос и торжество начала материнского, основанного на чувственности и неуправляемых страстях. А Достоевский, по убеждению Гессе, это именно безумный ясновидец азиатского типа. И, что самое страшное: