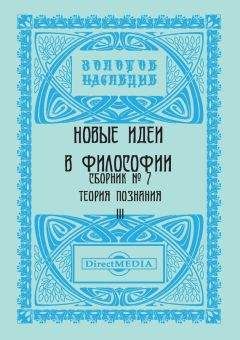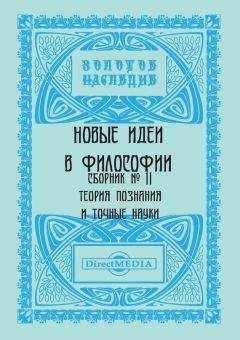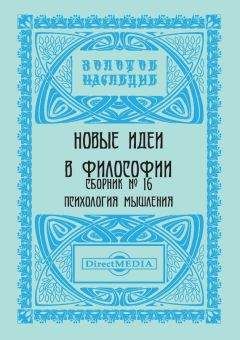Дмитрий Токарев - Курс на худшее: Абсурд как категория текста у Д.Хармса и С.Беккета
Ролан Барт замечает по поводу Мориса Бланшо:
Творчество Бланшо (будь то критика или «роман») представляет собой весьма своеобразную (хотя ей, пожалуй, имеются соответствия в живописи и музыке) эпопею смысла — наподобие истории Адама, то есть первого человека, жившего до смысла[25].
Смысл, который Хармс разыскивает так упорно, есть именно этот адамический, алогический смысл, отражающий глубинную связь Бога и человека, которые общаются на языке «бессмысленном», дорефлекторном. Адамический смысл трансцендирует как смысл, так и не-смысл, абсурд, и является скорее тем вне-смыслом, о котором говорит Барт и который совпадает со смыслом абсолютным, тотальным, с первоначальной, добытийственной плеромой.
Хармс интересовался, без сомнения, абсурдом, его привлекали нелепые, странные, иллогические ситуации, воспринимавшиеся поэтом в качестве зримого воплощения его собственной маргинальной, социальной и поэтической, позиции. Абсурдность каждодневного механического существования также получила выражение в его прозаических произведениях, отразивших неудачу, постигшую хармсовскую метафизико-поэтическую концепцию[26]. Камю писал о человеке в телефонной будке: «Человек говорит по телефону за стеклянной перегородкой; его не слышно, но видна бессмысленная мимика. Возникает вопрос: зачем он живет? Отвращение, вызванное бесчеловечностью самого человека, пропасть, в которую мы низвергаемся, взглянув на самих себя, эта „тошнота“, как говорит один современный автор, — это тоже абсурд»[27]. Нетрудно обнаружить у Хармса тексты, в которых то же самое ощущение абсурдности «бытия-в-мире» выражено с не меньшей художественной силой. Вот один из них, написанный в 1931 году:
Как странно, как это невыразимо странно, что за стеной, вот этой стеной, на полу сидит человек, вытянув длинные ноги в рыжих сапогах и со злым лицом. Стоит только пробить в стене дырку и посмотреть в нее и сразу будет видно, как сидит этот злой человек. Но не надо думать о нем. Что он такое? Не есть ли он частица мертвой жизни, залетевшая к нам из воображаемых пустот? Кто бы он ни был, Бог с ним.
(Псс—2, 26)Если это чувство доминирует в эпоху большого террора, то проявляется оно гораздо раньше, еще в двадцатые годы, когда Хармс занимался разработкой собственной поэтической стратегии. И Хармс и Камю посмотрели на мир, если воспользоваться выражением из декларации «ОБЭРИУ», «голыми глазами», но, в то время как французский писатель не находит другого выхода, кроме как стоически сопротивляться абсурду, для русского поэта осознание абсурда является лишь исходной точкой поисков путей его преодоления. Именно поэтому авторы декларации могут сказать:
Вы как будто начинаете возражать, что это не тот предмет, который вы видите в жизни? Подойдите поближе и потрогайте его пальцами. Посмотрите на предмет голыми глазами, и вы увидите его впервые очищенным от ветхой литературной позолоты. Может быть, вы будете утверждать, что наши сюжеты «не-реальны» и «не-логичны»? А кто сказал, что «житейская» логика обязательна для искусства?[28]
Показательно, что зрителю подобный объект кажется «нелогичным»; на самом деле он и не может быть воспринят по-другому, ибо восприятие зрителя целиком и полностью определяется его внешней по отношению к объекту позицией. Нелогичность картины обязательно отсылает к логике того, кто её созерцает. Если же представить ситуацию, в которой не будет внешнего наблюдателя, то положение вещей изменится радикально: картина приобретет в таком случае свою собственную самодостаточную логику, трансцендирующую любое противопоставление; Друскин называет ее «логикой алогичности» (Чинари—1, 646). В пьесе «Елизавета Вам», где Ж.-Ф. Жаккар нашел так много случаев нарушения нормальной коммуникации, есть интересный эпизод, в котором речь идет о «бесконечном доме»:
Петр Николаевич.
Никто в нем не живет
и дверь не растворяет,
в нем только мыши трут ладонями муку,
в нем только лампа светит розмарином
да целый день пустынником сидит на печке таракан.
Иван Иванович.
А кто же лампу зажигает?
Петр Николаевич.
Никто, она горит сама.
Иван Иванович.
Но этого же не бывает!
«Это дом движителя времени, где нет наблюдателя, где лампа подобна солнцу», — замечает М. Ямпольский (Ямпольский, 152)[29]. Неудивительно, что Иван Иванович не верит, что лампа может гореть сама: он находится снаружи дома, закрытая дверь которого защищает эту зону алогичности от проникновения логики[30]. «Бесконечный дом» оказывается, таким образом, настоящим произведением искусства: тот, кому удастся туда проникнуть, уже не сможет оперировать понятиями, связанными с дискурсивным разумом. Он уже не вне произведения искусства, а внутри его. По мысли Друскина, в подобном состоянии бессмыслица, вне-смысл переживаются как нечто настолько естественное, что алогичность такого бытия становится внутренней логикой его существования (Чинари—1, 646). В трактате «Предметы и фигуры, открытые Даниилом Ивановичем Хармсом» Хармс отстаивает такую же позицию: так, человек, которому удалось выйти на глубинный уровень субстанциальных значений предметов, перестает, как утверждает поэт, быть наблюдателем, «превратясь в предмет, созданный им самим. Себе он приписывает пятое значение своего существования» (Чинари—2, 334). Друскин придал данной формулировке экзистенциальный смысл, вспомнив слова Введенского о том, что «Хармс не создает искусство, а сам есть искусство. Хармс в конце тридцатых годов говорил, что главным для него всегда было не искусство, а жизнь: сделать свою жизнь как искусство. Это не эстетизм: „творение жизни как искусства“ для Хармса было категорией не эстетического порядка, а, как сейчас говорят, экзистенциального»[31].
Итак, бессмыслица является абсолютной реальностью. Логосом, ставшим плотью. «<…> сам этот личный Логос алогичен, так же как и Его вочеловечение», — пишет Друскин (Чинари—1, 646). Слово, ставшее плотью, не иррационально, а арационально. Не случайно бессмыслица или, лучше, алогичность, которая трансцендирует понятия как нормы, так и безумия, расценивается обычно как отклонение, в том числе и психическое, — судьба Хармса, умершего в тюремной психиатрической больнице, является еще одним тому доказательством. Не случайно также, что Беккет, ставивший себе задачей преодоление диктата языка над писателем и, в идеале, полное разрушение языка, которое могло бы привести к абсолютному покою небытия, рассматривает сумасшествие, причем с самых ранних этапов своего творчества, как наиболее приемлемую стратегию борьбы с внешним миром, а значит и с языком, который он порождает. В этом отношении особенно примечателен господин Эндон, один из персонажей «Мэрфи»; именно этому пациенту психиатрической клиники Марии Магдалины суждено воплотить тот идеал, к которому стремятся герои всех последующих произведений писателя: неукорененность Эндона в бытии, кататонический ступор, в котором он находится почти постоянно, не могли не послужить Беккету той моделью, в которой в наиболее полной степени проявило себя свойственное ему абсолютное отрицание внешнего мира. Но не привлекает его и внутренний мир человека, погружение в который грозит постепенным растворением в бессознательном, что и происходит в трилогии, и особенно в романе 1960 года «Как есть», агонизирующий язык которого отражает полную дезинтеграцию сознания. Мутизм Эндона, отражающий отсутствие как сознательной, так и бессознательной жизни, определяет в конечном счете всю динамику беккетовского творчества: вначале отказ от изображения внешней действительности, затем растворение в недрах бессознательного и в конце концов создание текста нейтрального, абстрактного, — текста, безжизненность которого приближает писателя к пустоте белого листа бумаги, к покою небытия.
Хотя в клинике есть еще один пациент, погруженный в глубокий ступор, — некий Кларк, Мэрфи стремится походить именно на господина Эндона, который выделяется на фоне всех остальных обитателей клиники. Кларк повторяет часами одну и ту же фразу: «Господин Эндон — существо высшего порядка» (Мэрфи, 140). Таким образом, если Кларк признает, что есть что-то, что находится вне его, Эндон замкнут сам на себе и существует безотносительно к чему-либо иному[32]. Лишь внешний взгляд превращает его в сумасшедшего, тогда как в действительности он существует по ту сторону нормы и безумия. В этом отношении его состояние можно назвать алогичным или, иначе, внесмысленным. «Нормальный» человек думает, что безумен шизофреник, для шизофреника может быть безумен окружающий его мир; господин Эндон не думает ничего, он научился жить «без головы», как сказал художник Брам ван Вельде по поводу самого Беккета[33]. Точно так же и «безумие божье», божественная бессмыслица является безумием лишь с точки зрения человеческой мудрости.