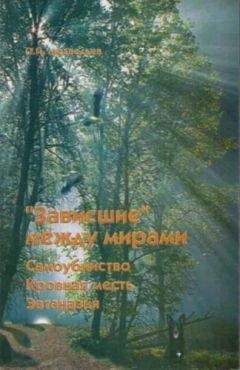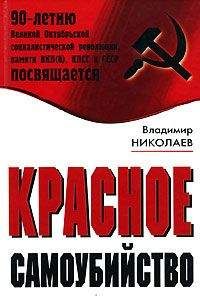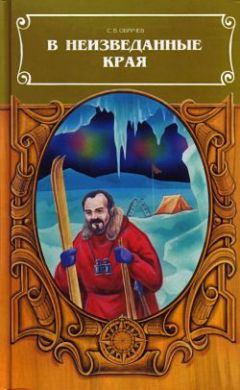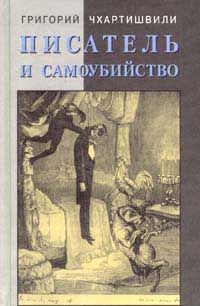Владимир Обручев - В неизведанные края. Путешествия на Север 1917 – 1930 г.г.
От Уолбы мы должны свернуть через низкие лесистые горы к Алдану. На ночевке вокруг нашего стана собираются любо пытные и критикуют наших лошадей. Все находят, что они никуда не годятся: слишком "сухие", спины сбиты.
Слышатся мрачные предсказания, подкрепляемые обычным: "Сами увидите".
"От Уолбы до Алдана — очень плохая дорога, сплошь бадараны (болота), половина ваших лошадей останется. Где же в подковах через болота! Через Алдан мы только жирных лошадей плавим, из ваших половина потонет".
В конце концов приводят жирных лошадей, с глубокой бороздой на широкой спине и предлагают менять на наших с придачей пяти или десяти рублей. Я отказываюсь: все наши лошади осмотрены в Якутске ветеринарами, а этих отдают что-то уж очень охотно.
Но тяжелое впечатление от пересудов остается, и мы с опаской поглядываем на своих лошадей; у многих уже сбиты спины, некоторые выглядят утомленными после быстрых переходов.
Дорога от Уолбы к Алдану значительно хуже, и мы получаем первое представление о бадаранах. По этой дороге они все покрыты гатями, но часто бревна совсем сгнили, и из осто рожности приходится объезжать гать стороной, прямо по болоту. Лошади падают, их надо развьючить, вынести вьюк на себе до сухого места, иногда пятьдесят-сто метров по болоту, помочь лошадям встать. Одна кроткая серопегая лошадь, Пегашка, не может сама подняться в болоте: лежит на боку, вся обмазанная грязью, и жалобно смотрит темными глазами; когда мы вытаскиваем ее из болота и ставим на ноги, у нее дрожат бедра.
Через Верхоянский хребет
В ясный день 27 июня мы спускаемся в долину Алдана. Среди лесов и лугов находим несколько юрт — урочище Хад жима. Старик якут, который выходит к нам навстречу, говорит, что большая лодка есть только на устье Амги, в сорока километрах южнее. У них же на берегу нет ни лодок, ни веток.
"А на том берегу Алдана, в Крест-Хальджае?"
"Также нет ничего".
"Если переплыть самим на складной лодке, которую мы везем, то найдем ли Крест-Хальджай?"
"Нет, он километрах в трех от реки, и с берега его не видно".
"Есть ли здесь проводник через Верхоянский хребет?"
"Нет, был один — уехал".
Алдан здесь шириной в несколько километров, разделен на отдельные протоки множеством островов, от самых маленьких до огромных; острова покрыты лесом. По-видимому, нам не удастся построить плот и на нем перевезти лошадей: плот при быстром течении унесет между островами очень далеко. Надо лошадей "плавить".
Выйдя на берег Алдана, к моему большому удивлению, я нахожу три ветки (лодки), и мне удается нанять неуклюжего и молчаливого якута, который перевозит меня на другой берег.
Только через несколько часов мы достигаем противоположного, покрытого лесом берега; вытаскиваем ветку на берег, пересекаем прибрежную полосу леса и через десять минут достигаем юрт аласа Нахсыт, расположенного в стороне от реки. Мое появление вызывает здесь крайнее оживление — со всех сторон сбегаются жители. Проводник с гордостью пока зывает меня и рассказывает, кто я и зачем приехал; затем слушатели пытаются добиться от меня сведений о приходе парохода. Давно уже должны прийти два парохода из Якутска вверх по Алдану, один на Нелькан, другой на Алданские прииски, и привезти свежие товары в Крест-Хальджай.
Собрав скудный запас якутских слов, которым я научился за две недели, стараюсь рассказать все новости о пароходах, об Уолбе и даже о Якутске. Якуты напряженно стараются понять мое сбивчивое объяснение, составленное из одних су ществительных и глаголов в неопределенном наклонении, и, наконец, уловив содержание, радостно улыбаются. Каждую мою фразу они повторяют друг другу, подкрепляя ее словом: "дийде" (говорит).
Отсюда я иду с одним якутом, у которого есть большая лодка, в алас Эбе, где расположено селение Крест-Хальджай. Мне еще в Якутске рекомендовали найти здесь учителя-якута Савву Харитонова, который может помочь в найме провод ника.
Харитонов принимает меня очень радушно, и с его помощью мне удается столковаться с перевозчиком. Последний берется на своей лодке перевезти весь груз, а лошадей перегнать вплавь. Но переправа займет три дня, что меня очень беспокоит: у нас мало времени, а надо пройти так далеко.
Перевозчик и Савва говорят, что после переправы придется непременно дать лошадям отдохнуть целый день.
С проводниками еще хуже: почти все, знающие дорогу, разъехались. Есть один старик, Иннокентий Сыромятников, живущий в 15 километрах, за которым Харитонов посылает нарочного.
После ночевки в школе я утром, на заре, возвращаюсь в Нахсыт, чтобы переправиться на левый берег Алдана и успо коить своих спутников, которые с нетерпением ждут новостей о переправе и проводниках.
В Нахсыте все еще спят. Надо подождать, пока приготовят чай, — уйти без чая не полагается. Хозяин юрты старается занять меня разговором, но за недостатком слов разговор скоро прерывается.
Это мой первый визит в юрту, и я с любопытством осмат риваюсь. От кочевого быта у якутов остался еще обычай строить две юрты — летнюю и зимнюю. Иногда они строятся в двух-трех километрах одна от другой, иногда дверь к двери и отличаются только величиной: зимняя меньше и утеплена. Я в летней юрте. Она покоится на четырех вертикальных бревнах, поставленных по углам квадрата; сверху на них лежит венец из четырех балок с одной или двумя поперечными матицами. К этому остову прислонены наклонно тонкие бревна, образующие стены. В стенах прорублены маленькие оконца, в которых вставлены рамы с обломками стекол, нередко вшитыми между двумя кусками бересты. Крыша сделана из жердей с очень слабым наклоном. В одной стороне или, чаще, в центре очаг — камин с прямой трубой из жердей, обмазанных глиной. Пол земляной; вдоль стен кругом юрты, между вертикальными столбами и наклонными стенами — ши рокие нары, "орон". Снаружи юрта покрыта землей, смешанной с навозом.
Хозяйка вынимает из деревянного шкафчика, когда-то раскрашенного ярким геометрическим узором, фарфоровые чашки. На стол ставят самовар (на Алдане я его видел в каж дой юрте) и угощенье: лепешки и сливочное масло кусками. Трое смуглых детей, с темным румянцем на щеках, с блестящими черными глазами, жмутся к коленям хозяина юрты и с любопытством, открыв ротики, рассматривают меня.
Хозяин очень внимателен к ним, сажает их на колени и угощает кусками масла.
После чаепития мы едем на тот берег, и вскоре начинается переправа.
Рабочие приводят пять лошадей и со страшными криками загоняют их в реку; лодка отъезжает, лошади плывут за ней пофыркивая. Рыжая лошадь начинает захлебываться. Михаил Перетолчин, один из русских рабочих, свешивается через борт, хватает ее за уши и держит голову над водой. Наконец лодка подходит к острову, лошади выскакивают на берег и, отряхи ваясь, убегают в лес. Лодка идет за новой партией.
Мы с геодезистом К. А. Салищевым, взяв астрономические инструменты, переправляемся в якутской ветке на правый берег, чтобы возле Нахсыта определить астрономический пункт. Переправа продолжается часа два-три. На полянке у Нахсыта расставляем инструменты, палатку; Салищев, как только на темнеющем небе появляются первые звезды, начи нает наблюдения.
Утром нас будит какая-то голова, просунувшаяся в палатку; я довольно нелюбезно огрызаюсь, но когда после ряда непонятных слов называется фамилия и имя посетителя, кото рые тоже сразу не поймешь, сон сразу проходит: это сам долгожданный проводник Сыромятников. Он довольно толстый, с длинным упитанным лицом, ласков, но, видимо, себе на уме. Он знает всего два-три русских слова; для переговоров придется ехать к Сабе (Савва — учитель; якуты называют людей по именам, фамилия употребляется в исключительных случаях, это "писаное имя").
С Сыромятниковым приехал другой якут, и мне любезно дают его лошадь, а он сам идет пешком. Лошадь с якутским седлом, и вскакивать на него приходится спереди, описывая большой пируэт в воздухе правой ногой, чтобы не задеть переметные сумы. Сыромятникова на седло поднимает спутник — у него болит спина. В школе учитель угощает нас чаем. После того как выпито несколько чашек, начинается длинный разговор. Сыромятников сообщает, что прямых дорог отсюда на Чыбагалах никто не знает и никто никогда прямо туда не ездил. Единственный возможный путь — это пройти на Индигирку, к Оймякону, а там уже искать проводника на Чыбагалах.
На Оймякон есть две тропы: одна — южная, по которой прошел в 1891 году геолог Черский, но на нее отсюда попасть трудно. Другая тропа, северная, идет от Крест-Хальджая прямо на восток, сначала вдоль реки Томпо, затем пересекает реку и поднимается по ее притоку Менкюле. По этой дороге можно выйти на Индигирку в 100 километрах ниже Оймякона, к устью реки Эльги и даже в факторию Тарын-Юрях, которая еще ниже. До Индигирки отсюда больше 75 якутских кёсов1 — 750 якутских верст; якуты делают этот путь в двадцать пять дней. Он думает, что мы пройдем не меньше тридцати дней: корма по дороге мало, придется иногда дневать на местах, где есть корм. Дорога тяжелая, очень много болот, и наши кова ные лошади не годятся.