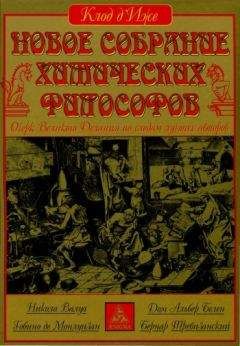Жозеф Артур де Гобино - Опыт о неравенстве человеческих рас. 1853г.(том1)
Я понимаю, на чем зиждется такая точка зрения. Незадолго до Перикла в Афинах и у римлян в эпоху Сципионов среди высших классов распространился обычай сначала рассуждать о религиозных делах, затем подвергать их сомнению, потом вообще отступиться от них и гордиться атеизмом. Постепенно этот обычай завоевывал все больше сторонников, и скоро почти не осталось истинно верующих.
В этом аргументе есть доля истины, но много в нем и ложного. Разумеется, факты говорят о том, что Аспазия в завершение вечерних трапез и Лелия в кругу близких друзей получали удовольствие от попрания священных догм своих стран, но тем не менее в эти периоды, кстати, самые блистательные в истории Греции и Рима, было опасно вслух проповедовать подобные идеи. Неосторожность любовницы дорого обошлась самому Периклу: стоит вспомнить слезы, проливавшиеся им перед судом, которые тем не менее не смогли оправдать прекрасную атеистку. Вспомним почти официальный язык поэтов того времени, когда Аристофан и Софокл после Эсхила яростно ополчились против осквернителей богов. Дело в том, что вся нация верила в своих богов, считала Сократа виновником всех перемен и желала суда над Анаксагором. А что потом?.. Смогли ли философские и безбожные теории овладеть широкими массами? Я заявляю: никогда, ни в какую эпоху им этого не удавалось. Скептицизм остался привычкой высшего общества и не выходил за его пределы. Мне могут возразить, что нет смысла говорить о том, как думали простые горожане, сельские жители, рабы, не имевшие влияния на государство и политику. Но дело в том, что такое влияние у них было, и до самого последнего вздоха язычества они сохраняли свои храмы и свои алтари, содержали своих иерофантов, и самые известные, просвещенные и самые твердые в отрицании религии люди не только выставляли напоказ свое благочестие в одежде, но между чтением Лукреция исполняли самые неприятные культовые обряды и не только добросовестно посещали церемонии, но в редкие часы досуга, отнимая время у изнурительных политических игр, писали моральные трактаты.
Я имею в виду великого Юлия.[2] Мало того: все императоры после Цезаря являлись верховными священниками; еще Константин, хотя и обладал разумом, более просвещенным, чем все его предшественники, чтобы отказаться от столь неприглядной обязанности, мало приличествующей его званию христианского князя, под влиянием общественного мнения, очевидно достаточно влиятельного даже в ту эпоху, должен был считаться с национальной античной религией. Таким образом, речь идет не о вере простых горожан, сельских жителей и рабов, а о мнении людей просвещенных. И напрасно это мнение порой восставало, от имени разума и здравого смысла, против абсурдности язычества — народные массы не хотели и не могли отказаться от одной веры, пока им не предложили другую вместе с доказательствами ее истинности и целесообразности в мирских делах; давление этого общего чувства было настолько сильным, что в третьем веке в среде высших классов появилась религиозная реакция, причем серьезная реакция, которая продолжалась вплоть до окончательного перехода народа в лоно Церкви, а царство философии достигло апогея при Антониях и начало хиреть вскоре после их смерти. Но здесь не место обсуждать этот вопрос, хотя он представляет интерес для истории человеческой мысли; достаточно заметить, что обновление захватывало все более широкие слои народа.
Чем больше старился римский мир, тем выше становился авторитет армии. Все, от императора, как правило избираемого из гвардии, до самого последнего офицера его свиты, до самого мелкого областного управителя, начинали под лозой центуриона. Т. е. все выходили из этих народных масс, чью неоспоримую набожность мы уже отмечали, а взойдя на более высокую ступень, встречались — и эта встреча их шокировала и ранила — с античным блеском знатных горожан, городских сенаторов, которые смотрели на них как на выскочек и с радостью поставили бы их на место, если бы не страх. Существовала вражда между настоящими хозяевами государства и древними родовыми семействами. Военачальники были верующими и фанатичными, примерами служат Максимин, Галер и сотни других, между тем как сенаторы и декурионы находили удовольствие в скептической литературе, но поскольку все вели придворную жизнь, т. е. жизнь среди военных, им пришлось усвоить язык и убеждения нового времени. Постепенно все жители империи стали набожными, и именно через набожность сами философы во главе с Эвхемером придумали системы, с тем чтобы примирить рационалистические теории с культом государства, кстати, в этом особенно преуспел император Юлиан. Не стоит слишком восхвалять это возрождение языческого благочестия, потому что из него вышло большинство преследователей наших мучеников. Народ, оскорбленный атеистическими сектами в своей вере, терпел, пока над ним довлели правящие классы, но едва имперская демократия низвела эти классы на самую унизительную ступень, простолюдины возжелали мести и по ошибке перебили многих христиан, которых они называли нечестивыми и путали с философами. Вот красноречивое различие между эпохами! Царь Агриппа, язычник со скептическим умом, из любопытства захотел выслушать святого Павла.[3] Он его выслушал, вступил с ним в дискуссию, принял его за сумасшедшего, но тем не менее не наказал за то, что тот думает не так, как он. Или возьмем историка Тацита, который презирал приверженцев новой религии, но осуждал Нерона за жестокое к ним отношение — и Агриппа и Тацит были неверующими. Диолектиан больше слушал своих подданных, Деций и Аврелий были фанатики, как и их народ.
А сколько тягот пришлось перенести, пока римские власти окончательно не приняли христианство и не привели население в лоно новой веры! В Греции было очень сильное сопротивление — как среди ученых мужей, так и в городах и селах; епископы приложили большие усилия, чтобы одолеть местных божков, и победа в конечном счете была достигнута не столько за счет обращения и убеждения, сколько благодаря ловкости, терпению и времени. Гений апостолов в сочетании со всевозможными уловками сумел заменить божеств лесов, лугов, рек святыми, мучениками и девственницами. Прошло много времени, было сделано немало оплошностей, прежде чем был найден верный путь. Да что говорить о временах отдаленных! Разве в самой Франции нет прихода, где бы священников до сих пор не заботили суеверия, столь же устойчивые, сколь нелепые? В католической Бретани в прошлом столетии один епископ долго сражался с культом каменного идола. Он приказывал бросать тяжелую глыбу в воду, и всякий раз упрямые поклонники доставали ее, и потребовалось вмешательство пехоты, чтобы разбить идола на куски. Вот вам наглядный пример долгожительства язычества. Итак, я делаю вывод: нет оснований утверждать, что Рим и Афины хоть на один день были лишены религиозных чувств.
Следовательно, поскольку ни в далеком прошлом, ни во времена нынешние ни одна нация не отвергала своего культа, пока ей не давали другой, нельзя сказать, что крах народов есть следствие их безверия.
Отказываясь принять разрушительную силу фанатизма, роскоши, падения нравов и безверия, я перехожу к вопросу о дурном правлении, а этот предмет заслуживает отдельного разговора.
ГЛАВА III
Качество правления не имеет отношения к долговечности народов
Я понимаю, насколько трудна эта тема. Даже сама попытка заговорить об этом покажется многим читателям чем-то вроде парадокса. Люди убеждены — и имеют на то достаточно оснований, — что хорошие законы, хорошая администрация оказывают непосредственное и сильное воздействие на здоровье нации, но при этом заходят так далеко, что приписывают законам и администрации решающую роль в продолжительности существования социальной совокупности людей, в чем и заключается распространенное заблуждение.
Разумеется, дело обстояло бы именно так, если бы народы могли жить только в состоянии благополучия, но мы знаем, что они существуют долгое время, как, впрочем, и отдельные люди, в периоды дезорганизации и разброда, которые часто отражаются и на соседях. Если бы нации всегда умирали от своих болезней, как могли бы они выжить в первые годы своего формирования? Ведь именно тогда они имеют самую дурную администрацию и наихудшие законы, к тому же плохо исполняемые. Как раз в этом состоит их отличие от человеческого организма: если организм, особенно в детстве, опасается болезней, перед которыми он явно не выстоит, то общество таких бед не знает; история дает нам великое множество примеров того, что общество без конца ускользает от самых опасных, долгих и опустошающих политических недугов, крайними проявлениями коих являются плохие законы и слишком суровое или безразличное правление.[4]