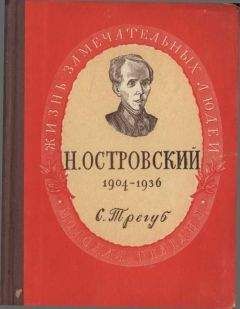Александр Лавров - От Кибирова до Пушкина
Г. Г. Данилову, пожалуйста, передайте, что в его стихах многое очень удачно. Есть острые и любопытные мысли, но ему надо много работать, чтобы освободиться от влияния Блока, затем — чтобы «философия» не лезла из стихов, как начинка из пирога, а чтобы была с ними спаяна, сварена в одну массу, чтобы «содержание» и «форма» (кстати — не всегда у него безукоризненная) были соединены, так сказать, не механически, а химически. Его стихи несколько рассудочны, но у них есть данные быть умными: ум же есть соединение рассудка и чувства. (Кстати: у Вас явно преобладает чувство над рассудком.) Словом — ежели сказано, что надо быть простыми, как голуби, и мудрыми, как змии,[726] — то Вам следует кое-чего призанять у змиев, а г. Данилову — у голубей.
Я бы охотно напечатал кое-что и из Вашей тетради, и из тетради г. Данилова. Но я нигде сейчас не редактор, а «пристройство» стихов в последние годы принесло мне такое множество неприятностей, подчас очень тяжелых, что я дал на сей счет твердый зарок (даже напечатал об этом письмо в редакцию «Возр<ождения>» — м<ожет> б<ыть>, оно Вам попадалось?). Поэтому Вы хорошо сделаете, если обратитесь к Маковскому непосредственно, тем более, что Вы сотрудник «Возрождения». Пошлите ему и стихи г. Данилова. Вот если Маковский сам меня спросит совета, то я обещаю всяческое содействие. Но Вы на меня не ссылайтесь, это может испортить все дело.
О рассказах Ваших не имею понятия, но желаю всяческого успеха. Впрочем, по части прозы я не судья. Сам писать рассказов не умею — и других судить избегаю.
Итак, еще раз прошу прощения за долгое молчание. Посылаю Вам свою фотографию, как обещал, и желаю всего самого лучшего в наступающем году.
Жму Вашу руку.
Владислав Ходасевич.Вот еще важный пункт Вашего письма, о котором надо сказать несколько слов, — не затем, чтобы обескуражить Вас, но чтобы не скрывать от Вас правду. Не возлагайте надежд на литературную работу, как способ «выкарабкаться» из «юдоли». Как бы ни были велики Ваши дарования, какой бы успех ни выпал на Вашу долю (а он в эмиграции требует такой личной ловкости, которой, к чести Вашей, я в Вас не предполагаю) — все равно Вы всегда должны будете жить не-литературным трудом. Бунин, Зайцев, Мережковский живут подачками, а не доходами от своих писаний. Я существую газетой, которая, в сущности, отнимает у меня весь запас трудоспособности, не оставляя времени для настоящей работы[727]. Люди с большими именами и тридцатилетним стажем получают за лист (40 000 знаков!) по 500 франков. Больше листа в месяц писать нельзя, а полуголодная жизнь обходится здесь одинокому человеку минимум в 1000 фр. Писателю без «имени», будь он гений, больше 200–300 фр. в месяц на круг не выработать. Все это Вы должны принять во внимание. Прибавив к этому непомерно тяжкие моральные условия: здесь ни на успех, ни хотя бы на внимание начинающий писатель рассчитывать не может. «Пробиваться» надо лет двадцать. К этому надо быть готовым, прежде, чем порывать с какой бы то ни было возможностью жить не литературным трудом.
В. Х. 27 дек<абря> 928. 10 bis, rue des 4 Cheminées Boulogne s/Seine.[728]12 мая 1930 года Ходасевич писал Дехтереву, по-видимому, в последний раз:
10 bis, rue des 4 Cheminées
Boulogne s/Seine
12 мая 930.
Простите меня, многоуважаемый Александр Петрович. Я только сегодня, 12 мая, получил письмо Ваше: секретарь редакции запер его в стол да и уехал в отпуск.
От души благодарю Вас за поздравление и привет. Вы меня очень обяжете, ежели при случае передадите мою признательность также и неизвестным мне лично друзьям — участникам импровизированного «заседания», о котором сообщаете. Желаю, чтобы силами, здоровьем, счастием судьба воздала им всем за великое и доброе дело, которое они делают. Кстати уж непременно передайте и то, что Александр Петрович Дехтерев в своих речах изрядно преувеличивает истинные размеры моей скромной особы.
В июле будут напечатаны в «Совр<еменных> Записках» последние главы «Державина»[729]. Я Вам тогда пошлю оттиск, вместе с оттисками предыдущих глав. А пока жму руку и благодарю еще раз.
Владислав Ходасевич. Жена очень признательна Вам за внимание.[730]На этом контакты между ними, по-видимому, прервались.
После закрытия Шуменской гимназии Болгарским правительством Дехтерев переехал в Чехословакию. В 1935 году его жизненный путь резко изменился: он принял постриг как инок Алексий в обители преподобного Иова в Словакии. Был заведующим монастырской школы, соредактором газеты «Православная Русь» и журнала «Детство и юность». Позднее — иеромонах, настоятель Храма-памятника русским воинам в Ужгороде (1938), редактор журнала «Православный Карпатский вестник». В 1940 году уехал в Александрию (Египет), где в течение десяти лет был настоятелем русского храма Александра Невского. В 1946-м Дехтерев принял советское гражданство и 15 мая 1949-го вернулся в СССР. Сначала он служил библиотекарем Троице-Сергиевой лавры, затем, с 1950 по 1955 год, — епископом Пряшевским в Чехословакии. Он вернулся в Вильнюс, став временным управляющим Литовско-Виленской епархией (ноябрь 1955 — ноябрь 1956). С ноября 1956 года до смерти — архиепископ Виленский и Литовский Алексий. В это время он выпустил сборник статей и речей о борьбе за мир. А. П. Дехтерев скончался 19 апреля 1959 года в Вильнюсе в день своего 70-летия и похоронен в Свято-Духовом монастыре в Вильнюсе[731].
Дж. Малмстад (Вэмбридж, Массачусетс)Автопародия как поэтическое credo:
«Собачий вальс» Давида Самойлова[**]
Стихотворение «Собачий вальс» было напечатано лишь однажды — на 16-й полосе «Литературной газеты» от 4 января 1978 (№ 1)[733]. Давид Самойлов откликнулся на обращенное к ряду литераторов предложение «администрации клуба „Двенадцать стульев“» (отдела юмора «Литературной газеты») «создать пародии на самих себя» (из предисловия «дежурного администратора клуба» П. Ф. Хмары). Однако изощренное строение текста, отразившего ряд важнейших мотивов и приемов поэзии Самойлова, заставляет увидеть здесь нечто большее, чем простую шутку.
В «Собачьем вальсе» Самойлов дважды цитирует «Пестеля, поэта и Анну»: в первый раз — узнаваемо трансформируя исходный текст («И поп о ней подумал: „Не глупа!..“»; ср.: «А Пушкин думал: „Он весьма умен…“» — 244, 150), во второй — прямо («Стоял апрель» — 245, 152). Отсылки должны актуализировать не только семантику переосмысляемого стихотворения (о чем ниже), но и его популярность. «Пестель, поэт и Анна» — текст, служащий Самойлову «визитной карточкой», постоянно цитируемый, обсуждаемый критикой и в то же время пригодный для комического обыгрывания[734]. Так, заголовок «пушкинского» стихотворения Самойлова преобразуется Юрием Левитанским в «Арфа, Марфа и заяц», а его пародию, метрически и системой мотивов ориентированную, в первую очередь, на «Ночного сторожа», завершают строки: «А на чердаке распевала Марфа, / В манере, присущей одной лишь Марфе, / и я, задохнувшись, тогда подумал: / ах, арфа, / ах, Марфа, / ах, боже мой!»[735] В этой концовке сходятся отсылки к «Пестелю, поэту и Анне», «Ночному сторожу» и «Названьям зим», где и появляется имя «Марфа» («Еленою звалась зима, / И Марфою, и Катериной» — 149). Замена «высокого» и особо значимого для Самойлова имени именем «простонародным» перекликается с устной шуткой Левитанского («А эту Зину звали Анной»), как кажется, отозвавшейся в 6-й главе поэмы «Последние каникулы»[736]. Мягко напоминая о дружеских пародиях Левитанского, Самойлов снимает оппозицию «высокое» — «низкое»: если «пушкинское» стихотворение и тесно связанное с ним — на что тонко намекнул Левитанский — «Названья зим» могут быть безболезненно трактованы в комическом ключе, то их пародийный эквивалент сохраняет и по-своему транслирует серьезные смыслы «источников».
«Названья зим» открывают ряд самойловских стихотворений, объединенных именем «Анна», носительница которого предстает воплощением женского идеала. Имя это возникает в предпоследней строке (в рифменной позиции), но его появление подготовлено звуковой организацией текста с ощутимым доминированием «а». В тексте из 41 ударения 20 падает на «а». Не касаясь здесь сложной игры ударными гласными в «Названьях зим» (второе место — 8 ударений — занимает «и», ударный звук имени «Катерина») и связанной с ней шифровки подлинного имени героини этого текста (и, в сущности, самойловского мифа об Анне)[737], отмечу резкое преобладание «а» в «Собачьем вальсе» (из 70 ударений на «а» приходится 33; плюс 2 ударных «а» в заглавье)[738]. Делая объектом пародии два программных стихотворения (фоника «Названий зим» и цитаты из «Пестеля, поэта и Анны»), поэт актуализирует их не вполне очевидную для стороннего наблюдателя связь (как смысловую, так и генетическую). Центральный мотив пения (в серьезных стихах — в первую очередь женского, в пародии — собачьего) выводит разом к двум ключевым (и принципиально подразумевающим друг друга, даже в текстах, где прописана лишь одна из них) самойловским темам: любви и творчества, — а «вороватая сука» предстает сниженным двойником идеальной героини (Анны).