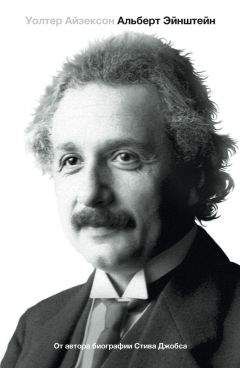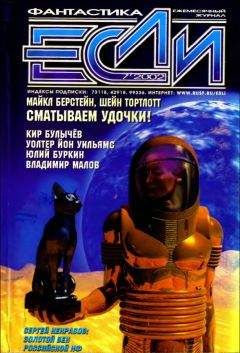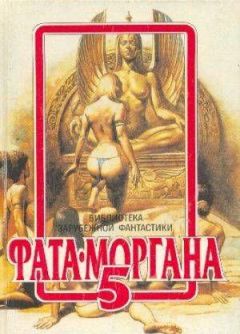Уолтер Гратцер - Эврики и эйфории. Об ученых и их открытиях
Лоренц, как и многие другие, предполагал, что эволюция погоды детерминирована — то есть ее параметры, взятые в произвольный момент времени, однозначно определяют, какой будет погода в любой другой день, месяц и год; поэтому точность прогноза зависит только от точности параметров начального состояния. Компьютер Лоренца выдавал прогнозы в виде набора цифр, которые было несложно превратить в графику. Откровение пришло к нему в тот день, когда он решил тщательней присмотреться к результатам. Чтобы сэкономить время, Лоренц перезапустил программу, не дожидаясь, пока закончится очередной расчет, а сам отправился пить кофе.
Вернувшись, он с изумлением обнаружил, что новые результаты заметно отличаются от прежних. Затем он вспомнил, чем процедуры расчета отличались друг от друга. Второй раз он ввел данные с меньшей точностью, чем в первый; так, например, вместо параметра 0,506127, описывающего одну из особенностей погоды, он ввел просто 0,506.
Разница была меньше 1/5000 — и такая ничтожная величина, считал Лоренц, едва ли скажется на результате. 1/5000 приравнивалась к ничтожному дуновению воздуха.
У Лоренца имелись все основания решить, что компьютер ошибся. Вместо этого он углубился в наблюдения и заключил, что математический казус реален: какой бы малой ни были разница в исходных данных, результаты будут расходиться, пока короткое время спустя всякое сходство между ними не исчезнет окончательно. Вот что об этом пишет Джеймс Глейк в своей книге про хаос:
Математическое чутье подсказало Лоренцу (его коллеги начнут понимать это намного позже): здесь что-то не в порядке с философской точки зрения. Здравому смыслу угрожала опасность. Пусть уравнения и были жалкой пародией на описание погоды во всей ее полноте, Лоренц верил, что в них заложена суть поведения реальной атмосферы. В тот день он решил, что с долгосрочными прогнозами погоды следует покончить навсегда.
“Я понял, — заключает Лоренц, — что любая физическая система, которая ведет себя не периодично, непредсказуема”. Его выводы подтвердились, когда много лет спустя куда более мощные компьютеры запрограммировали на моделирование погоды. В новую программу было заложено уже не 12, а полмиллиона с лишним уравнений. Так родился “эффект бабочки”: если бабочка в Пекине пошевелит крыльями, этого будет достаточно, чтобы изменить погоду в Нью-Йорке месяц спустя.
Эдвард Лоренц, однако, на этом не остановился. Он открыл куда более простую систему уравнений, где расхождение результатов гарантировал принцип “существенной зависимости от начальных условий”. Интуиция подвела его к мысли, что сдвиг результатов, который становится заметен после многих циклов вычислений, должен повторяться и что в итоге должен получиться некий особый узор. Так и оказалось. Решения уравнения, если изобразить их кривыми в трехмерном пространстве, будут блуждать вокруг точек-фокусов, и это их поведение стали называть “аттрактором[14] Лоренца” Подобные изображения теперь очень популярны у дизайнеров. Так научное понятие хаоса появилось на свет, но Лоренц публиковал свои работы в метеорологических журналах, и понадобились годы, чтобы важность его наблюдений осознали и ученые, работающие в других областях науки. Это касается динамики приливов, течения жидкости по трубкам и капиллярам (в том числе по артериям и венам), биения сердца, колебания численности популяций у животных и много чего еще.
Глейк приводит слова одного физика: “Теория относительности устранила ньютоновскую иллюзию абсолютных пространства и времени; квантовая теория похоронила ньютоновскую мечту о контролируемом процессе измерения; а хаос кладет конец фантазиям Лапласа о детерминистской предсказуемости” Это куда более справедливо, чем замечание психиатра Эрнеста Джонса, утверждавшего, что человеческий дух пережил всего три тяжелых удара — от Галилея, Дарвина и Фрейда.
Замечательная книга Gleick James, Chaos — Making a New Science (Viking, New York, 1987; Heidelmann, London, 1988).
Повар знает, как лучше
Появлением метода радиоуглеродного датирования мы обязаны химику Уилларду Либби (1908–1980). Углерод, который присутствует во всех жизненно важных соединениях, содержит в небольших количествах радиоактивный изотоп. Когда организм гибнет, метаболизм прекращается, и окружающая среда больше не поставляет новые порции этих соединений; изотоп в них постепенно распадается. Поэтому, если измерить радиоактивность мертвого животного или растения, можно узнать, насколько давно это животное или растение умерло. Метод произвел переворот в археологии, а Либби в 1960 году стал лауреатом Нобелевской премии. Ниже — рассказ американского биохимика Дэниэла Кошленда, который в то время был его аспирантом:
Помню, как однажды в субботу Фрэнк Вестхеймер (известный химик, научный руководитель Кошленда) влетел в лабораторию и сказал: “Иди сюда немедленно. Мы тут совещаемся, и ты нам нужен”. Я послушно пошел в его кабинет и увидел там Билла Либби, Джорджа Велана, еще двух профессоров и кучку аспирантов. Проблема, которую Либби поставил перед нами, заключалась в следующем: Либби желал знать, как сжечь пингвина. Кто-то убедил его, что ему нужно получить современные образцы с достоверно известным углеродным составом и сравнить их с теми древними образцами, на которых он проверял свой метод углеродного датирования. То есть необходимо собрать животных с Южного полюса, с Северного полюса, с экватора и т. д.
Пингвина прислали из Антарктики, и нам предстояло решить, как превратить в СO2 весь углерод мяса, клюва, когтей и перьев. Группа начала с очевидных советов: дымящая серная кислота, царская водка (смесь соляной и азотной кислот), дымящая азотная кислота, хромовая смесь и т. д. Каждое предложение кто-нибудь забраковывал, ссылаясь на собственный опыт. В конце концов мы все в унынии разбрелись ужинать. Несколько дней спустя мне посчастливилось встретить Либби, и я поинтересовался, на чем он остановил свой выбор. Либби сказал, что химического решения не нашлось, зато он поделился проблемой с женой. Та, заметив, что все вещества любых живых организмов синтезируются из одного материала, посоветовала сварить пингвина и собрать жир, который, само собой, легко окислить до СO2. Мы последовали ее совету — и задача была решена. И сам ход наших мыслей, и обмен идеями между аспирантами и профессорами, который длился часами, — все это делало атмосферу научной жизни в Чикаго тех лет удивительно привлекательной.
Koshland D.E., Annual Reviews of Biochemistry, 65,1, (1996,).
Кухонная химия: открытие нитроцеллюлозы
Нитроцеллюлоза (основа бездымного пороха), в английском обиходе получившая название “ружейного хлопка” (gun-cotton), была открыта, как и озон, немецким химиком Кристианом Фридрихом Шёнбейном (1799–1868). В 1829 году его назначили профессором Базельского университета, но, как гласит легенда (правдивость которой под вопросом), открытие он совершил у себя дома, на кухне.
Университетская лаборатория ежедневно закрывалась на обед, и Шёнбейн, упрямый и нетерпеливый экспериментатор, иногда продолжал прерванный опыт дома. Рассказывают, что в один из таких дней колба, где он кипятил нитрующую смесь (раствор азотной кислоты в серной), взорвалась: едкая жидкость залила все, с чем обычно возилась на кухне жена ученого. Опасаясь ее гнева, он схватил первую же вещь, которая подвернулась под руку, чтобы вытереть пролитое. “Первой же вещью” оказался хлопчатый фартук жены, который она второпях постирала и повесила сушиться у плиты. Вспыхнуло бездымное пламя, и фартук бесследно исчез.
Хотя этот эпизод, вероятно, и пошатнул семейное спокойствие, он вскоре принес Шёнбейну удачу и славу. Его пригласили продемонстрировать новую взрывчатку в Вулвичском арсенале в Лондоне, и Шёнбейн не упустил случая презентовать королеве Виктории и принцу Альберту пару фазанов — первых в истории фазанов, которых застрелили из ружья, заряженного патронами с “ружейным хлопком”.
Brown G.I., The Big Bang: A History of Explosives (Sutton, Stroud, 1998J.
Живое ископаемое
За три дня до Рождества 1938 года хранительница крошечного Ист-Лондонского музея на восточном побережье Южной Африки готовила к выставке коллекцию ископаемых останков. Девушку звали Маржори Куртенэ-Латимер. Тем утром ее работу прервал телефонный звонок из гавани, где только что пришвартовался траулер, доверху набитый уловом, — имелись и акулы, и множество другой рыбы. Капитан траулера и прежде передавал самых разнообразных рыб в коллекцию музея. Куртенэ-Латимер еще не успела распорядиться запасами от предыдущих уловов, а выставку следовало подготовить до праздников. Поэтому нельзя сказать, чтобы ей особо хотелось возиться с новыми образцами. “Но тут я вспомнила, как все на “Ирвине” и “Джонсоне” были ко мне добры. Тем более приближалось Рождество. По крайней мере, мне следовало спуститься в порт — пожелать им того, чего обычно желают на праздник”.