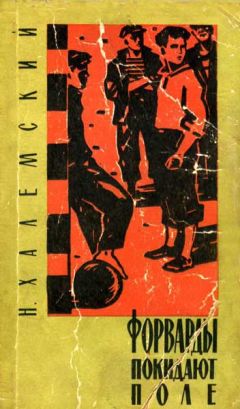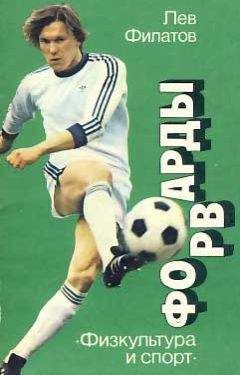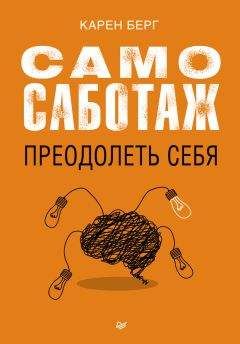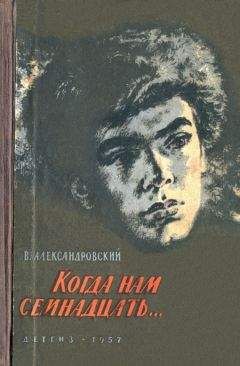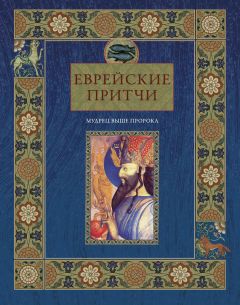Наум Халемский - Форварды покидают поле
Здесь, на кладбище, мы торчим уже добрых два часа. Чем ближе подползают сумерки, тем тягостнее ожидание. Что, если уркам снова сообщили о нашей засаде? Дзюба способен всю ночь держать нас на кладбище. Безумие! Я за себя не ручаюсь. Меня можно морить голодом и холодом, но лежать рядышком с мертвецами я не могу даже ради высокой идеи. Степка и Санька любят приключения. А Радецкий В. — мертвецам не товарищ. Ночью тут, очевидно, весело. Наверное, скелеты вылезают из могил. Представляю себе, какие дикие коленца они выкидывают, на них ведь нет никакой управы: милицией их не запугаешь.
Провались я на этом месте, если возле большого склепа не движется чудак в белом саване. Мамочка родная… Но почему Санька спокоен? Он как ни в чем не бывало счищает перочинным ножом снег с надгробной плиты.
Высунул кончик языка и так погрузился в свое нелепое занятие, будто мертвецы ему нипочем. О, он умеет скрывать страх под личиной веселости. Ему, подлецу, холодно, и жрать охота, и страшно, как и мне, а виду не подает. Еще мурлычет, как ворожея.
— Что ты бормочешь?
Саня подтягивается поближе и шепчет:
Грезит ночь, уснули люди,
Только я тоской томим.
Нормальный человек не станет на кладбище, между надгробий и склепов; читать стихи. Нормальный — волком взвоет. Лежать на холодной земле и ждать ночи, пока «курносая» в белом саване запляшет у тебя на спине или вцепится костяшками в горло, — мне такой героизм категорически не подходит. Пусть Дзюба и Студенов обращаются к Саньке и Степке, а у меня расстроена нервная система, собак и мертвецов я с детства не переношу.
Но ничего не поделаешь. Встреча с урками состоится. Дзюба заверил, что они непременно должны сегодня собраться в своей «малине» — в родовом склепе купца первой гильдии Варфоломея Жадова.
— Вова, — участливо шепчет Саня, — ты посинел, как мертвец.
— Посинеешь! Зуб на зуб не попадает, я даже охрип.
— Да, у тебя определенно воспаление легких начинается, по голосу слышно…
— Это опасно?
— Нет, ничего опасного. Но, конечно, умрешь;..
— Рехнулся! А как же наш номер в цирке?
— Снявши голову, по волосам не плачут.
По Санькиному тону не легко определить, разыгрывает он меня или говорит серьезно.
— А почему от воспаления легких обязательно умирают? Разве нельзя лечить?
— Кто сказал, что нельзя? Самое лучшее средство — три клистира в течение суток. Неплохо еще выпить стакан касторки с горячим молоком. Умираешь без всякой боли.
— Заткнись!..
Но Санька не унимается:
— Нет, правда. Хоть ты и беспартийный, но комсомол примет твои похороны на свой счет. Впереди понесут личные вещи усопшего, чуть позади прошествуют убитые горем родственники и близкие друзья, Зина станет на морозе сморкаться, а Степка будет вытирать ей слезы своим носовым платком.
— Саня! Не выводи меня из терпения. В конце концов я могу ударить тебя в пах.
— Вова, я ведь от чистого сердца. Мы похороним тебя со всеми почестями и даже дадим салют над твоей свежей могилой.
Я стал искать вокруг себя что-нибудь тяжелое.
В голосе Саньки мгновенно зазвучали льстивые и ласковые ноты.
— Вова, не злись. Такого друга, как я, ты не найдешь. Может, еще удастся тебя спасти, но если горе все же постигнет нас, Степка, Зина, Ася и я каждое воскресенье будем сажать цветочки и капусту на твоей могилке и посыпать ее желтым песочком.
— Сволочь ты, вот что! — Я нахлобучил шапку на глаза, чтобы не видеть его образину.
— Ну, вот и оскорбляешь. А ведь я из самых лучших побуждений — хочу отвлечь тебя, дурья башка, у тебя уже полные штаны.
— Всех меришь на свой аршин.
Санька, забыв о конспирации, довольно громко пропел:
— «Пускай ты умер!.. Но в песне смелых и сильных духом всегда ты будешь живым примером, призывом гордым к свободе, к свету!»
— Замолчи, нас услышат…
Со всех сторон темнота крадется к нам, равнина перед кладбищем уже не видна. От холода клонит ко сну, я еще ниже натягиваю шапку, руки прячу в рукава куртки.
Думай о всякой чепухе, — советует Саня. — Можешь считать, что рядом с тобой — не я, а Зина, и тогда тебе стыдно будет дрейфить. Да и чего бояться — ведь за каждым камнем лежит наш хлопец.
— Ты уверен?
— Дзюба ведь при нас расставлял посты.
— А вдруг те комсомольцы домой сорвались?
— Не говори чепухи.
Из-за соседнего памятника зашикали.
Ноги озябли нестерпимо. Попытался присесть, по Саня потянул за штанину — лежи, мол, не шевелись, так не мудрено всю операцию провалить. Честно говоря, еще нет никакого мороза, но камнем лежать на заснеженной земле — удовольствие ниже среднего, хоть я и напялил на себя батин свитер, теплую куртку и ушанку. Ее подарил мне братуха, когда уезжал в погранвойска.
Интересно, что сейчас поделывает Степан? Он также участвует в операции, но его, как комсомольца, назначили командиром той группы, которая должна свалиться уркам на голову у фамильного склепа и, отделив их от беспризорников, связать по рукам и ногам. Беспризорниками займемся мы. Важно не дать им разбежаться.
Отец Степана, Андрей Васильевич, уже поправился и остался в Песках на партийной работе до полного коммунизма. Степану лафа. Он сам хозяйничает в подвале, побелил все на красоту, повесил портреты Ильича, Карла Маркса, Фридриха Энгельса, Розы Люксембург, Карла Либкнехта и, на вздыбленном коне, Котовского. Мы с Саней иногда ночуем у Степана, и тогда он угощает нас картошкой в мундире и солеными огурцами. Керзон и Корж тоже как-то приходили, предлагали сыграть на интерес в «буру», но Степка решительно воспротивился: «Здесь не малина, валяйте в охотничий домик». С тех пор, как Седой Матрос и его дружки надолго поселились в «гостинице» и живут на казенных харчах, игра в охотничьем домике прекратилась. И вообще новостей немало. Керзон не выдержал кандидатского стажа — он снова получил принудиловку и, не таясь уже, переселился к папе и маме. Теперь он хочет стать вратарем в нашей команде. Но сейчас тренировки прекратились до весны. Степка поет в «Синей блузе», поет здорово, а мы с Саней почти ежедневно по три-четыре часа репетируем с Гуттаперчевым Человеком дивный номер на пьедестале с лестницей. Борис Ильич делает каскад необыкновенных фигур на пьедестале, затем, сидя по-турецки, устанавливает лестницу у себя на голове, а мы с Санькой на ее вершине стоим вниз головой, жмем стойки, предности и т. д. Тем временем Борис Ильич без помощи рук поднимается во весь рост. У нас здорово получается, но Борис Ильич недоволен и часто говорит:
— Во-первых, у тебя, Вова, пикническое сложение, поэтому нет впечатления отработанности упражнений, нет изящества. Во-вторых, у тебя боязнь высоты, и если ты ее не преодолеешь, циркача из тебя не выйдет.
Борис Ильич — хороший человек, но очень странный. Он уговаривает меня забыть о высоте, об опасности и считать, что все наши трюки с Саней мы проделываем на земле. Я соглашаюсь, но когда лестница начинает колебаться подо мной, закон земного притяжения оказывается сильнее меня, начинается легкое головокружение и даже икота — просто невыносимая… Я делаю предность, а Санька жмет стойку на моей башке. Но едва начинается икота, у Саньки срывается стойка.
— Из-за его икоты я останусь калекой, — жалуется он Борису Ильичу.
Тот глядит на меня умоляющими глазами. Действительно, не может же он запретить икоту. Грубость, недисциплинированность, болтливость, даже лень можно запретить, а икота никому не подвластна. Пил я соду, всякие капли, даже к врачу повел меня Борис Ильич. Врач сказал: «Икота от страха. Преодолеете страх — исчезнет икота». В жизни много загадок. Вот лежу на земле и дрожу от холода, а стоит предаться размышлениям — и ощущение холода исчезнет, даже теплей становится. Наверное, умирают люди так же незаметно. Очень интересно умереть, но, конечно, не навсегда. А только испытать, как это умирают, и сразу же вернуться к жизни. Сон одолевает меня, но тут слышится свист, и я прихожу в себя.
— Вовка, скорей!
Протираю глаза и перепрыгиваю через могильную плиту. Отовсюду несутся свист, крики, стоны, над головой летят камни. Угораздило меня вздремнуть в самый критический момент! Наконец я различаю в темноте Саньку, который отбивается у высокой ограды от наседающих на него беспризорников. Они пытаются прорваться через калитку, а он не подпускает их близко, видимо, пытаясь выиграть время, пока подоспеет помощь. Бросаюсь в самую гущу свалки и сразу получаю удар по черепу. Перед глазами пошли зеленые круги. Наверное, меня саданули бы палкой еще раз, если бы не удалось вырвать ее из рук отчаянного малыша в будёновке и женской кофте.
Пока я отбирал палку, одному из пяти наших противников удалось трахнуть меня по переносице, и я сразу ощутил во рту вкус крови. Да, компания попалась отчаянная. Кто знает, чем бы все закончилось, не подоспей к нам вовремя пожилой, в кожаной куртке, чекист, руководитель операции. При его появлении беспризорники сразу сникли, бросили на снег палки с металлическими наконечниками и сгрудились у калитки, кутаясь в лохмотья. Весь их вид словно говорил: «Ну, чего вы там еще задумали?» Из носа у меня сильно текла кровь, и чекист, держа в левой руке наган, правой протянул мне бинт. Даже обидно стало: все так быстро закончилось, я даже не успел отомстить за себя как следует. Неужели из-за этих пяти шерамыжников затеяли столько шума? Они беспечно плелись впереди нас, ступая по могильным плитам. Когда мы вышли к склепу купца Жадова, тут толпилась целая ватага оборванцев, окруженная комсомольцами. В самом склепе горели два факела, и шесть ворюг со связанными на спине руками, стояли лицом к стене. Только пятеро наших «подопечных» прорвались сквозь кольцо комсомольцев и, опоздай мы с Санькой, вряд ли удалось бы их задержать. Вероятно, задремал не я один. Чекист в кожаной куртке рассказывает Дзюбе о нашей схватке и даже хвалит нас, особенно меня, как серьезно пострадавшего. Обеспокоенный Дзюба освещает меня фонариком и рассматривает ссадину и шишку на голове. Откуда-то из темноты вырастает Степан, от него так и пышет самоуверенностью.