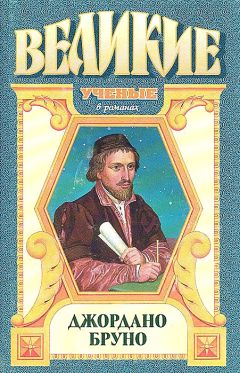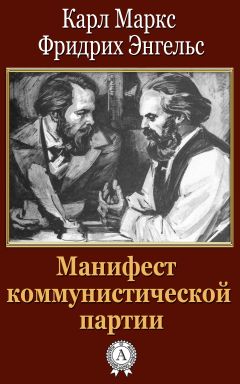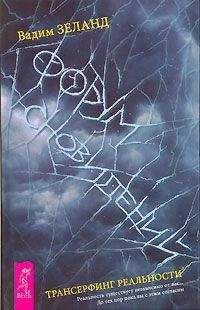Бруно Латур - Нового Времени не было. Эссе по симметричной антропологии
Именно первый принцип симметрии произвел смятение в исследованиях науки и техники, когда было высказано требование, что заблуждение и истина должны рассматриваться в одних и тех же терминах (Вlоог, 1982). До этого момента социология знания, привлекая огромное количество социальных факторов, занималась исключительно объяснением отклонений от прямой дороги разума. Заблуждение могло объясняться социально, а истина объясняла себя сама. Представлялось вполне возможным анализировать веру в летающие тарелки, но не знание о черных дырах; можно было анализировать иллюзии парапсихологии, но не знание психологов; заблуждения Спенсера, но не прозрения Дарвина. Одни и те же социальные факторы не могли одинаково применяться к тому и другому. В этих двух эталонах, двух мерах обнаруживается старое, осуществляемое антропологией разделение между науками, которые не подлежат изучению, и этнонауками, которые можно изучать.
Посылки, из которых исходит социология знания, не долго смущали бы этнологов, если бы эпистемологи не возвели в ранг основополагающего принципа саму эту асимметрию, существующую между истинными и ложными науками. Только эти последние — «устаревшие» науки — можно связывать с социальным контекстом. Что касается «санкционированных» наук, они становятся научными только потому, что отрываются от всякого контекста, от всех следов собственного происхождения, от всякого наивного восприятия и уклоняются даже от собственного прошлого. Таково, по мнению Башляра и его учеников, различие между историей и историей науки. История может быть симметрична, но это ничего не значит, поскольку она никогда не имеет дела с наукой; история науки никогда и ни при каких обстоятельствах не должна быть симметричной, ибо эпистемологический разрыв должен оставаться абсолютным.
Одного примера будет достаточно, чтобы показать, до чего может дойти отказ от всякой симметричной антропологии. Когда Кан-гилем отделяет научные идеологии от настоящих наук, он утверждает не только то, что невозможно изучать Дарвина — ученого и Дидро — идеолога в одних и тех же терминах, но что их даже нельзя ставить на одну доску (Canguilhem, 1968). «Разделение идеологии и науки должно воспрепятствовать тому, чтобы увидеть непрерывность в истории науки там, где сохраняются какие-то элементы идеологии, и там, где научное построение вытеснило идеологию: например, искать в Сне Д'Аламбера то, что предшествует Происхождению видов» (Ibid., р. 45). Наукой является только то, что навсегда порывает с идеологией. Руководствуясь таким принципом, действительно трудно следовать за квазиобъектами, принимая во внимание все мельчайшие обстоятельства, которые их окружают. Раз оказавшись в руках эпистемологов, они будут оторваны от всех своих корней. Останутся только объекты, лишенные всей той сети, которая придавала им смысл. Но зачем вообще говорить о Дидро и Спенсере, зачем интересоваться заблуждениями? Потому что без них блеск истины был бы слишком ослепительным. «Осознание переплетений, существующих между идеологией и наукой, должно помешать нам свести историю науки к бесцветному историческому комментарию, то есть к плоской картине, лишенной рельефа» (Ibid., р. 45). Ложное — это то, что оттеняет истину. То, что Расин, прикрываясь красивым именем историка, делал для Короля-солнца, Кангилем делает для Дарвина, точно так же незаконно присваивая звание историка наук.
Напротив, принцип симметрии восстанавливает непрерывность, историчность и, назовем это так, справедливость. Блур — это анти-Кангилем, так же как Серр — это анти-Башляр, что, впрочем, объясняет то полное непонимание, которое встречает во Франции как социология наук, так и антропология Серра (Bowker, Latour, 1987). «Идея, что существует наука, очищенная от всех мифов, — сама лишь миф», написал Серр, когда порывал с эпистемологией (Serres, 1974, р. 259). Для него, как и, собственно говоря, для историков науки, Дидро, Дарвин, Мальтус и Спенсер должны получить объяснение, исходя из одних и тех же принципов и оснований; если вы хотите объяснить веру в летающие тарелки, проверьте, могут ли ваши объяснения симметричным образом быть использованы и для черных дыр (Lagrange, 1990); если вы нападаете на парапсихологию, способны ли вы использовать те же самые факторы и для психологии (Collins, Pinch, 1991)? Если Вы анализируете достижения Пастера, позволят ли вам те же самые понятия осознать его неудачи (Latour, 1984)?
Прежде всего, первый принцип симметрии предлагает посадить объяснения на диету. Стало так легко объяснять заблуждения! Общество, верования, идеология, символы, бессознательное, безумие — все это предлагалось с такой легкостью, что благодаря этому объяснения все больше распухали. А истина? Утратив легкость, вызванную эпистемологическим разрывом, мы, те, кто изучают науки, заметили, что большая часть наших объяснений ничего не стоит. Асимметрия была организующим принципом всех этих наук и всего лишь оскорблением для тех, кто уже и так был побежден. Все изменяется, если строгое следование принципу симметрии заставляет сохранять только те причины, которые могут сгодиться как для победителей, так и для побежденных, действуют как в отношении успеха, так и для неудач. Если точно выверить баланс симметрии, то благодаря этому расхождение между теми и другими станет только отчетливее и позволит понять, почему одни побеждают, а другие терпят поражение (Latour, 1989b). Те, кто, восклицая, как Бренн, «Гэре побежденным!»,' использовали для победителей одну шкалу, а для проигравших — другую, не позволяли понять это расхождение вплоть до настоящего момента.
Принцип генерализованной симметрии
Первый принцип симметрии дает несравнимое преимущество, освобождая нас от эпистемологических разрывов, от существующих а priori делений на «санкционированные» науки и «устаревшие» науки, или от искусственных границ между социологиями знания, верований и науки. Еще не так давно, когда антрополог возвращался из далеких земель, чтобы обнаружить у себя дома науку, очищенную эпистемологией, он не мог установить непрерывную связь между этонауками и остальными знаниями. Таким образом, он воздерживался, и не без оснований, от того, чтобы изучать самого себя, и довольствовался исследованием различных культур. Теперь же, возвращаясь домой, он обнаруживает исследования, с каждым днем все более многочисленные, которые касаются его собственных наук и методов, так что пропасть, существовавшая прежде между этнонауками и остальными знаниями, оказывается уже не такой большой. Теперь он может, без особых трудностей, переходить от китайской физики к английской (Needham, 1991); от тробриандских навигационных приборов к навигационным приборам военно-морского флота США (Hutchins, 1983); от тех, кто занимаются подсчетами в Западной Африке, к знатокам арифметики в Калифорнии (Rogoff, Lave, 1984); от техников в Кот-д'Ивуар к Нобелевским лауреатам в Сан-Диего (Latour, 1988); от жертвоприношений богу Ваалу к взрыву Челленджера (Serres, 1987). Он не обязан больше ограничивать себя исследованием культур, так как природа или множество природ оказываются в равной степени доступными для исследования.
Однако принцип симметрии, сформулированный Блуром, быстро заводит в тупик (Latour, 1991). И если этот принцип обязывает к железной дисциплине, когда дело касается объяснений, то и сам он оказывается асимметричным, как это можно увидеть на следующей схеме.
Схема 10Этот принцип действительно требует того, чтобы истинное и ложное объяснялись бы в одних и тех же терминах, но какие термины при этом выбираются? Те, которые науки об обществе предоставляют последователям Гоббса. Вместо того чтобы, согласно этому принципу, объяснять истину через точное соответствие природной реальности, а ложное — через зависимость от социальных категорий, эпистем или интересов, необходимо, чтобы как истинное, так и ложное объяснялось при помощи одних и тех же категорий, одних и тех же эпистем, одних и тех же интересов. Соответственно этот принцип также является асимметричным, но не потому, что он, как и сами эпистемологи, разделяет идеологию и науку, а потому что он выносит за скобки природу и переносит всю тяжесть объяснений на один только полюс — полюс общества. Будучи конструктивистским в отношении природы, он является реалистичным в отношении общества (Collins, Yearley, 1992; Callon, Latour, 1992).
Но общество, как мы теперь это знаем, сконструировано ничуть не в меньшей степени, чем природа. Если мы реалистичны в отношении одного, то необходимо быть реалистичными и в отношении другого; если мы конструктивисты в отношении одного, то надо быть конструктивистами в отношении их обоих. Или, скорее, как показало наше исследование, посвященное двум нововременным практикам, надо суметь осознать, как природа и общество одновременно являются имманентными — в работе медиации — и трансцендентными — после работы очищения. Природа и общество являются не жесткими рамками, к которым мы могли бы привязать наши интерпретации — асимметричные в кангилемовском смысле или симметричные в блуровском, — но, напротив, тем, что необходимо объяснить. Видимость объяснения, которое предоставляют природа и общество, возникает только позже, когда стабилизированные квазиобъекты становятся после раскола, с одной стороны, объектами внешней реальности, а с другой — субъектами общества.