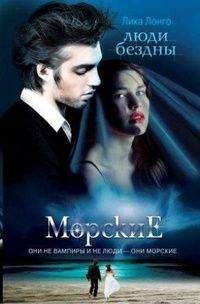Лорен Грофф - Тайны Темплтона
Глава 3
ВИВЬЕН, УМНАЯ И ПРЕКРАСНАЯ
В тряском автобусе, залитом солнечным светом, ехала девочка. Ее щеки были покрыты угревой сыпью, а полиэстровое платьице выкрашено в черный цвет в раковине женского туалета на одной из автостанций Среднего Запада. Краска плохо взяла ткань — оранжевые цветочки еще просматривались на волокнах, и цвет получился не черный, а пепельный, а там, где платье плотно прилегало к телу, на коже оставались черные следы, напоминавшие синяки. Впрочем, платье мало где прилегало так плотно, ибо и прилегать было нечему — открытый, на лямочках, топ, пришитый к юбке, такой короткой, что короче некуда. По правде сказать, девчонка напрасно напялила это платье — во-первых, она была для него, что ни говори, полновата, да к тому же отсидела и отбила на ухабах всю попку, пока добиралась из теплого февральского Сан-Франциско на север штата Нью-Йорк, где бушевали ледяные ветра. Только этого холода девчонка, конечно, не чувствовала, так как несколькими часами ранее приняла одну чудесную таблеточку и теперь мирно и сладко посапывала, приоткрыв рот.
Сердитая фермерша, забравшаяся в автобус в Эри, штат Пенсильвания, наблюдала за спящей с негодованием, сосредоточенно проводя языком по верхней десне. Две сотни миль она натужно кряхтела, как курица над яйцом, и наконец припечатала: «Хиппи!» Выпустив таким образом пар, она тут же уснула, причем точно в такой же позе, что и девчонка.
Девчонкой была, конечно, Вивьен, моя мать. Это было начало 1973 года, ей было семнадцать, и она возвращалась домой в Темплтон. В тот момент она была самой честной и искренней, какой ей довелось быть — сначала любимой дочкой из хорошей семьи, по природе бунтаркой, увлекающейся натурой, хиппи из Сан-Франциско, потом матерью, больничной медсестрой, религиозной фанатичкой и преждевременно состарившейся женщиной. Вивьен была человек-луковица— это я заподозрила, нагрянув домой в день, когда всплыло мертвое чудовище. Тогда мне показалось, что ярая баптистка, скрывавшаяся под многими слоями этой луковичной шелухи, как раз и была ее настоящей, едучей, пронимающей до слез сердцевиной.
Но тогда, в далеком семьдесят третьем, она была просто девчонкой, пусть и изрядно нашпигованной таблеточками. Дешевенький оловянный медальон хлопал ее по грудке, не знавшей лифчика, в такт трясущемуся автобусу и словно бы в знак сочувствия к новому для нее состоянию осиротелости. Она лишь смутно осознавала, что родители ее почему-то умерли, хотя толком не знала, как и почему, до нее так и не дошло до конца, что их больше на этом свете нет. Когда Вивьен очнулась от сна, первым, что бросилось ей в глаза, были белые здания Темплтона на берегу озера, сбившиеся в кучу, словно готовая злобно зашипеть стая гусей. Вивьен была тогда очень наивна и даже не подозревала, что город вскоре ополчится против нее. «Эта девочка зашла слишком далеко! — станут скоро шептать здесь. — Вы только посмотрите на нее!» По их меркам, она была опасна, эха бунтарка-отщепенка, развращающая детей, ибо благодаря ей и никому другому те узнавали, что такое спиртное, секс и этот неряшливый, неопрятный вид.
Но Ви о таком надвигающемся предательстве пока и понятия не имела, она знала только одно — Темплтон ее город. Она вела происхождение от знаменитого Мармадьюка Темпла и считалась прямым потомком как этого великого человека, так и его не менее великого сына, прославленного романиста Джейкоба Франклина Темпла. Этот город был ее родовым гнездом, хотя, будучи хиппи, она вроде бы не должна была верить в подобную чепуху.
Бедная Вивьен. Высадившись из автобуса у старого железнодорожного депо и оттащив на обочину стибренный у кого-то синий чемодан, она и предположить не могла, что здесь не найдется ни единой души, кто подвез бы ее до города. Она просидела там целый час, дрожа от холода, уверенная, что предупредила отца о приезде и что тот подойдет к автобусу. Наконец она вспомнила: автомобильная катастрофа… тот ужасный телефонный звонок во время веселой вечеринки… она упорно думала, что адвокат просто разыгрывает ее, сообщая о том, что ее родителей больше нет в живых.
И вот новоявленная сирота в легком калифорнийском платьице вынуждена была волочить за собой чемодан в гололед до самого центра — по Главной улице, мимо здания городского суда, мимо памятника жертвам Гражданской войны, мимо одинокого подмигивающего фонаря на Каштановой, до самого Эверелл-Коттеджа, отчего дома, где ее не ждали ни свет, ни тепло — никто, одна гнетущая тишина.
Рядом с телефонным аппаратом она нашла записку от адвоката, но слишком устала, чтобы читать ее. Лишь тяжело поднявшись в родительскую спальню, где на большом матрасе остались две одинаковые вмятины, она наконец поняла, что произошло. Что это хоть и казалось чем-то ложным и обманчивым, но было, как выяснилось, самой настоящей, неизбывной правдой. Проснувшись утром в их постели, она поняла, что родителей по-прежнему нет и что она опоздала на их похороны всего на сутки.
Весь день Вивьен слонялась по дому в тупом оцепенении, словно голова ее была набита шерстью, и впервые в жизни чувствовала себя сиротой. Но она не плакала, как не плакала еще сколько-то лет, пока однажды, разрезая на дольки еще теплый, с грядки, помидор, вдруг не бросила нож и не побежала в родительскую спальню, и там рыдала взахлеб три дня подряд, не поднимаясь даже тогда, когда ее четырехлетняя дочка стояла на пороге, сосала пальчик и совала в красное и мокрое от слез лицо матери коробку с растворимой кашей. Только наплакавшись вдоволь, Ви осушила слезы, счистила с подбородка три присохших помидорных семечка и спустилась на кухню, где продолжила колдовать над гаспачо, приготовлением которого занималась до того, как устроить себе этот маленький перерыв.
Официальная версия смерти моих бабушки с дедом выглядела так: Джордж и Фиби Аптон (урожденная Типтон) погибли в одночасье в автокатастрофе. В некрологе говорилось, что они ехали с очень большой скоростью по Восточному шоссе, когда их машину занесло на скользкой дороге и они полетели в пропасть. Во время падения они сильно побились, получили смертельные ранения и утонули в воде зимнего озера. Джордж был историком, в свое время получил степень доктора философии в Йельском университете и работал научным сотрудником в библиотеке Государственной исторической ассоциации штата Нью-Йорк. Библиотека эта располагалась в старинном особняке, именуемом Домом Франклина, и Джордж называл ее сокращенно ГИАН. Отстроена она была еще Джейкобом Франклином Темплом, выстояла, конечно, все это великое множество поколений, но содержать такую громаду Джорджу оказалось не по средствам.
Джордж был не из тех, кто привык горевать об утраченных состояниях, но его робкая женушка Фиби, заводя любую речь, частенько начинала ее с фразы: «Когда мы были богатыми…» Печально вздыхая, она, например, говорила: «Когда мы были богатыми, хозяин мясной лавки всегда отпускал нам в кредит». Или: «Когда мы были богатыми, мы знались с Рузвельтами». Последнее не имело никакого отношения к ней лично, ибо знакомство с Рузвельтами водили родители Джорджа. В городе у нас считалось, что своего состояния семья лишилась во времена Великой депрессии двадцать девятого года, хотя есть подозрение, что произошло это скорее по безалаберной непрактичности Джорджа, нежели по какой другой причине.
Сам Джордж нередко говаривал, что меньше всего на свете его волнует презренная прибыль. Он вообще был странным — одряхлел раньше времени, был суров до аскетичности и жил только затхлым духом книжных собраний. Ви не могла припомнить, чтобы он хоть когда-нибудь обнял ее. Но она не обижалась, она понимала его и всегда говорила: «Его же вырастила бабушка, а у бабушки его была только одна страсть — сиротский приют в Помрой-Холле». У Ви вообще зачастую складывалось впечатление, что отец чувствовал себя не бабушкиным родственником, а одним из ее сирот. Его собственная мать утопилась в озере, когда Джордж пребывал в самом нежном возрасте. Отца с тех пор он больше не видел — не пережив горя, тот уехал в Манхэттен и раз в месяц присылал мальчику денежный чек и скупое посланьице. Но Джордж, как рассказывала мне Ви, был по-своему счастлив. У него, как выяснила Ви по возвращении в Темплтон, была, оказывается, одна-единственная неодолимая страсть, которой он отдавал себя целиком.
Трясясь в то утро словно в лихорадке в кабинете адвоката, Ви узнала: неуемная страсть отца к работе была даже сильнее, чем она могла себе вообразить. В сущности, именно эта страсть, как доверительно поведал ей адвокат, по-видимому, и сгубила ее флегматичного отца, отправив его вместе с женой и «кадиллаком» в пропасть.
— Видишь ли, папа твой был к тому же еще… ну… как бы это сказать, слишком чувствителен к критике.
Вивьен, чертыхнувшись, вынуждена была согласиться, вспомнив, как отец выходил из себя, когда кто-либо позволял себе отпустить пусть даже самое невинное критическое замечание по поводу республиканской партии, Темплтона или его съехавшего в сторону галстука. Адвокат заулыбался, испытав заметное облегчение. Чонси Тодд был старым другом семьи и имел привычку произносить слова медленно и нараспев, когда хотел придать им особое значение. А еще он любил пялиться на сиськи — сначала на них и только потом уже на их обладательницу. Сиськи ему, кажется, много о чем говорили. Вот и сейчас он убедился, что эти девчонки-хиппи и впрямь такие раскованные, как о них говорят.