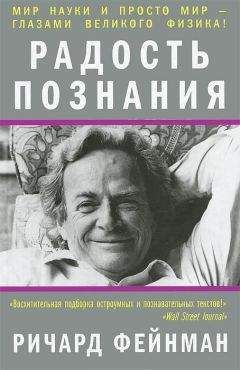Ричард Фейнман - Какое ТЕБЕ дело до того, что думают другие?
Я подумал: «Парням проще: они могут вклиниться, когда ни пожелают». Но проще это не было. Ты «можешь», но у тебя не хватает мужества, резона или чего бы там ни было, что нужно, чтобы расслабиться и получать от танцев удовольствие. Вместо этого, ты просто в узел завязываешься, переживая, как бы вклиниться в толпу или пригласить девочку потанцевать с тобой.
Например, когда видишь девочку, которая не танцует и с которой тебе хотелось бы потанцевать, то думаешь: «Класс! Теперь у меня, по крайней мере, есть шанс!» Но обычно все оказывалось не так-то просто: «Нет, спасибо, я устала. Думаю, что я отдохну, пока играет эта музыка». Итак, ты уходишь, потерпев своего рода поражение — но оно не окончательное, потому что, быть может, она действительно устала, — и тут ты поворачиваешься, и к ней подходит другой парень, и она идет с ним танцевать! Может быть, этот парень — ее друг, и она знала, что он вот-вот подойдет, или, возможно, ей не понравился твой вид, или что-нибудь еще. Все всегда было очень сложно, несмотря на то, что дело-то было пустяковое.
Однажды я решил пригласить Арлин на одну из таких вечеринок. Это было наше первое свидание. Там были и мои лучшие друзья; их пригласила моя мама, чтобы увеличить число клиентов танцевальной студии своей подруги. Эти ребята были моими сверстниками, мы вместе учились в школе. Гарольд Гаст и Дэвид Лефф были склонны к литературе, а Роберт Стэплер — к науке. Мы проводили вместе много времени после школы, ходили гулять и беседовали о всевозможных вещах.
Как бы то ни было, мои лучшие друзья пришли на эти танцы, и, как только они увидели меня с Арлин, они позвали меня в туалет и сказали: «Слушай, Фейнман, мы хотим, чтобы ты понял, что мы понимаем, что Арлин сегодня — твоя девушка, поэтому мы не будем вас беспокоить. Она для нас недосягаема», — и т.д. Но прошло совсем немного времени, и эти самые парни начали втискиваться и соперничать со мной! Тогда я усвоил смысл высказывания Шекспира: «Считаю я, что много говоришь ты».
Нужно понимать, каким я был тогда. Я был очень робким, всегда чувствовал себя неуютно, потому что все остальные были сильнее меня, и постоянно боялся показаться неженкой. Все остальные играли в бейсбол; все остальные занимались каким-нибудь спортом. Если где-то играли с мячом, и мяч выкатывался на дорогу, я просто цепенел от ужаса, потому что мне, возможно, придется поднять его и бросить назад — но если я делал это, то мяч улетал примерно в радиане от нужного направления и не достигал и половины нужного расстояния! И тогда все смеялись. Это было ужасно, и я очень страдал из-за этого.
Однажды меня пригласили на вечеринку в дом Арлин. Там были все, потому что Арлин была самой популярной девушкой в округе: она была номером один, самой милой девушкой и нравилась абсолютно всем. Ну так вот, я сижу в большом кресле, не зная, чем заняться, когда ко мне подходит Арлин и присаживается на ручку кресла, чтобы поболтать со мной. Вот так во мне зародилось чувство: «Бог мой! Мир прекрасен! Кто-то, кто мне нравится, обратил на меня внимание!»
В те дни, в Фар-Рокуэй, в храме был молодежный центр для еврейских детей. Он представлял собой огромный клуб с множеством разнообразных занятий. Там была группа писателей, которые сочиняли истории и читали их друг другу; была театральная труппа, которая играла пьесы; была научная группа и группа ребят, которые занимались искусством. Я не интересовался ничем, кроме науки, но Арлин посещала группу, занимавшуюся искусством, поэтому я тоже к ней присоединился. Я изо всех сил старался справиться с искусством — учился делать гипсовые слепки с лица и т.д. (что впоследствии пригодилось мне в жизни) — только так я мог быть в одной группе с Арлин.
Но у Арлин был друг, которого звали Жером и который тоже ходил в эту группу, так что шансов у меня не было. Мне оставалось лишь слоняться на заднем плане.
Однажды, когда меня в центре не было, кто-то выдвинул мою кандидатуру на пост президента молодежного центра. Старшие начали нервничать, потому что к тому времени я был признанным атеистом.
Меня воспитали в еврейской религиозной традиции — каждую пятницу моя семья ходила в храм, меня водили в то, что называют «воскресной школой», и в течение некоторого времени я даже изучал древнееврейский язык, — но в то же время мой отец рассказывал мне о мире. Когда я слушал рассказ раввина о каком-нибудь чуде, например, о кусте, листья которого дрожали, несмотря на то, что ветра не было, я пытался приспособить это чудо к реальному миру и объяснить его через явления природы.
Некоторые чудеса понять было сложнее, чем другие. Чудо с листьями было простым. Идя в школу, я услышал слабый шум: несмотря на то, что ветра не было, листья на кусте немного покачивались, потому что они находились в таком положении, что создавали своего рода резонанс. Тогда я подумал: «Ага! Это хорошее объяснение видения Илией куста, листья которого дрожали без ветра!»
Но были такие чудеса, которые я никак не мог объяснить. Например, была одна история, когда Моисей бросает свой посох, и тот превращается в змею. Я не мог представить, что видели свидетели сего, что заставило бы их думать, что его посох — змея.
Если бы я вспомнил то время, когда был младше, то история с Санта-Клаусом дала бы мне ключ. Но в то время я не обладал достаточным знанием, чтобы подумать о том, что, быть может, стоит подвергнуть сомнению истинность историй, которые не соответствуют природе. Когда я узнал, что Санта-Клауса не существует, я не расстроился, а, скорее, почувствовал облегчение от того, что факт, что так много детей по всему миру получают подарки в одну и ту же ночь, имеет гораздо более простое объяснение! История становилась все более сложной — она не укладывалась в голове.
Санта-Клаус представлял собой особый обычай, который мы праздновали в своей семье, причем относясь к этому не слишком серьезно. Но чудеса, о которых я слышал, были связаны с реальностью: был храм, куда люди ходили каждую неделю; была воскресная школа, где раввины рассказывали детям о чудесах; все это весьма впечатляло. Санта-Клаус не был связан с огромными заведениями, вроде храма, которые, как я знал, были реальны.
Таким образом, все время, пока я ходил в воскресную школу, я всему верил и постоянно пытался сложить все в одно целое. Но конечно же, в конечном итоге, рано или поздно, должен был наступить кризис.
Кризис наступил, когда мне было лет одиннадцать-двенадцать. Раввин рассказывал нам историю об Испанской Инквизиции, когда евреи подвергались ужасным мучениям. Он рассказал нам о конкретной женщине, которую звали Руфь, что она сделала, какие аргументы были в ее пользу и какие против нее — всю историю, как если бы ее записал секретарь суда. Я был всего лишь невинным ребенком, который слушал всю эту ерунду и верил, что это настоящие мемуары, потому что раввин никогда не упоминал об обратном.
В самом конце раввин описал, как Руфь умирала в тюрьме: «И, умирая, она думала», — ля, ля, ля.
Это шокировало меня. Когда закончился урок, я подошел к нему и спросил: «Откуда они узнали, что она думала, когда умирала?»
Он говорит: «Ну, дело в том, что мы придумали историю Руфи, чтобы более живо показать, как страдали евреи. На самом деле никакой Руфи не было».
Для меня это было слишком. Я почувствовал себя ужасно обманутым: я хотел услышать истинную историю — а не выдуманную кем-то еще, — чтобы я мог решить для себя, что она значит. Но мне было очень сложно спорить со взрослыми. Все, что я смог сделать, это расплакаться. Я был так расстроен, что из глаз покатились слезы.
Он спросил: «Но в чем дело?»
Я попытался объяснить. «Я слушал все эти истории, и теперь из всего, что Вы рассказали мне, я не знаю, что правда, а что — ложь! Я не знаю, что делать со всем, что я узнал!» Я пытался объяснить, что теряю все в одно мгновение, потому что я больше не уверен в данных, если можно так сказать. Я ходил сюда и пытался понять все эти чудеса, а теперь — что ж, это открытие объясняло многие чудеса, прекрасно! Но я был жутко несчастен.
Раввин сказал: «Если тебя это так травмирует, то зачем ты вообще ходишь в воскресную школу?»
— Меня родители посылают.
Я никогда не говорил об этом со своими родителями и не знаю, говорил ли с ними раввин, но мои родители больше никогда не отправляли меня туда. Все это произошло как раз перед тем, когда я должен был пройти обряд конфирмации как верующий.
Как бы то ни было, этот кризис довольно быстро разрешил мои трудности в пользу теории о том, что все чудеса — это истории, которые выдумали, чтобы помочь людям представить какие-то вещи «более наглядно», даже если эти чудеса противоречат каким-то природным явлениям. Но я считал, что сама природа настолько интересна, что мне не хотелось, чтобы ее так искажали. Таким образом, я постепенно пришел к тому, что вообще перестал верить в религию.
Так или иначе, еврейские священники организовали клуб со всеми его занятиями не только для того, чтобы отвлечь детей от улицы, но и чтобы заинтересовать нас образом жизни евреев. Так что если бы президентом этого клуба избрали типа вроде меня, то это поставило бы их в крайне неудобное положение. К нашему взаимному облегчению, меня не выбрали, но в конечном итоге центр все равно развалился — дело шло к этому уже тогда, когда меня выдвигали на должность президента, и если бы выбрали меня, то именно меня и обвинили бы в его кончине.