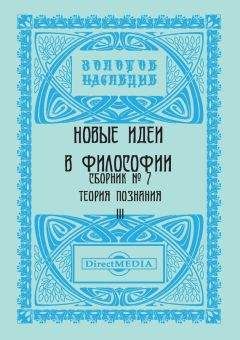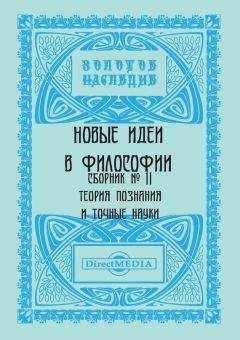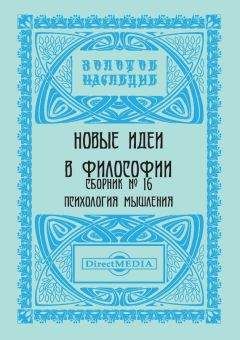Дмитрий Токарев - Курс на худшее: Абсурд как категория текста у Д.Хармса и С.Беккета
И еще одна потребность есть у господина Нотта: иметь свидетеля отсутствия у него, господина Нотта, потребностей; только при условии, что есть кто-то, кто не является им, кто ему внеположен, Нотт может продолжать существовать бесконечно. Примечательно, что чем дольше Уотт находится в доме Нотта, тем больший интерес у него вызывает настоящая, скрытая сущность его хозяина; в конце концов, Уотт уподобляется Нотту в том, что касается потребности не иметь потребностей. Сам Уотт называет потребности, от которых ему часто хочется избавиться, «последними крысами»:
Иногда Уотт испытывал чувство, которое напоминало чувство удовлетворения от того, что последние крысы его покинули. В эти моменты он радовался такой перспективе — быть покинутым последними крысами. После всего этого хруста, и писка, и беготни он оказался бы наконец в пустыне, полной великой тишины. Ведь уже с давних пор, в любую погоду вещи преследовали его. Вещи как таковые, и пустоты между ними[272], и свет, там высоко, нисходящий на них, и еще нечто иное, вытянутое, тяжелое, пустое, неустойчивое, членистое[273], топчущее траву и поднимающее тучи песка. Но если иногда, будучи покинутым последними крысами, Уотт испытывал чувство близкое к удовлетворению, то такие моменты были все-таки редки, особенно в начале его пребывания в доме господина Нотта.
(Уотт, 84–85)Прикоснувшись к этому неустойчивому, членистому «нечто», Уотт в ужасе возвращается в относительную стабильность линеарности, механического подсчета объектов окружающего мира. Это возвращение тем не менее не будет долгим: пребывание Уотта в доме господина Нотта неизбежно приведет его к принятию парадоксальной интуиции о том, что для того, чтобы не иметь потребности в еде, питье, сне и кое в чем другом, необходимо есть, пить, спать и делать это кое-что другое. Чтобы избавиться от еды, нужно съесть ее, растворить ее в желудке; чтобы избавиться от бытия, «растворить» его, нужно пройти через стадию разложения, распада, то есть «впитать» бытие в себя, поглотить его, причаститься его полноте. Конечно, проще последовать примеру Моллоя, который решительным жестом выбросил свои камешки для сосания, почувствовав, что, перекладывая их из одного кармана в другой, он рискует никогда не выбраться из замкнутого круга бытия. Похоже, что последний камушек Моллой к тому же проглотил, «растворил» его в себе. Уотт добивается тех же результатов, но другим, более сложным путем: если механическое перечисление предметов помогает ему ощутить присутствие материального, «твердого» мира, за которым скрывается пугающий его мир зыбкий и нечеткий, то оно же, независимо даже от него самого, вновь «выталкивает» его из пределов «домашнего финитума» в беспредельность «беспредметного» мира. Так, перечисляя предметы и исчерпывая тем самым возможности бытия, Уотт как бы переваривает их, чтобы извергнуть из себя недифференцированную, аморфную массу бытия-в-себе. Хармс, твердя «предмет, предмет, предмет», «проговаривает» бытие, беккетовский герой более физиологичен — он его «переваривает»[274].
Определенную аналогию подобному поведению можно найти в стремлении йогов обрести состояние покоя, остановив круговорот рождений и смертей. Мирча Элиаде так описывает жизнь «достигшего покоя», «освобожденного»:
Освобожденный будет продолжать вести себя активно, поскольку те возможности, которые относятся к предшествующим существованиям, а также к его собственному существованию до «пробуждения», должны, в соответствии с кармическим законом, быть реализованы и израсходованы. Но такого рода активность не будет больше его активностью; она будет активностью объективной, механической, бескорыстной, не заинтересованной в своем собственном результате. Когда «освобожденный» делает что-либо, он не осознает это действие как личное, но лишь как безличное; другими словами, его Я не вовлечено в психофизический процесс. Таким образом, существование освобожденного длится столько, сколько необходимо для того, чтобы потенциальное стало актуальным. Так как сила невежества больше не владеет им, прекращается образование новых кармических циклов. Когда же все указанные возможности будут израсходованы, освобождение становится абсолютным и окончательным. Можно даже сказать, что освобожденный не обладает «опытом» освобождения. После «пробуждения» он безучастен ко всему, и, когда последняя молекула отделяется от него, он обретает тот способ существования, который в силу своей абсолютности неведом смертным, — то есть нирвану[275].
Наиболее яркий пример подобного «исчерпания» возможностей — это, без сомнения, те восемь способов разложения коммуникации, воспроизвести которые пытается Сэм, приятель Уотта по психиатрической лечебнице. Интересно, что последний, восьмой, способ, заключающийся в синхронной инверсии всех элементов высказывания, получает в романе лишь теоретическое описание; Сэму не удается привести никакого конкретного примера этого наиболее радикального способа разрушения языка, когда язык превращается в набор бессмысленных, бессвязных звуков. Подобно господину Нотту, перемешивающему все ингредиенты в одном горшке, Уотт смешивает все звуки в нечленораздельную массу. Можно сказать, что разрушение языка средствами самого языка выражает у Беккета не только невозможность коммуникации между людьми, но и невозможность дать связное описание той реальности, которая находится по ту сторону языка.
Известная исследовательница творчества Беккета Линда Бен-Цви указывает, что на писателя повлияла концепция языка немецкого философа Фрица Маутнера, с произведениями которого Беккет познакомился в тридцатые годы[276]. Согласно Маутнеру, мышление и речь так же неотделимы друг от друга, как неотделимы речь и память. Таким образом, разрушение языка проявляется и как разрушение памяти; вот почему Сэм говорит, что не помнит ни одного примера этой восьмой по счету манеры изъясняться, когда Уотт одновременно меняет порядок предложений в высказывании, слов в предложении и букв в слове. С другой стороны, таинственная природа господина Нотта, по-видимому, опровергает тезис Маутнера о том, что эго не существует за пределами языка. Нотт существует несмотря на то, что не участвует в коммуникации. Уотт, речь которого напоминает «звуковые конвульсии», уподобляется своему хозяину: получается, что для того, чтобы замолчать, надо сказать все, и сказать одновременно; только тогда максимальное «расширение», «разрастание» языка приведет к взрыву и самоуничтожению.
В 1960 году Беккет публикует текст, который он сам назовет романом, хотя относительность этого наименования была ясна ему самому. Речь идет о «Как есть», самом «неудобочитаемом» произведении писателя. По сути, это текст о разложении языка и, соответственно, разложении мира, от которого осталась лишь вселенская липкая грязь. По ней и ползет персонаж-личинка, персонаж-червь, реинкарнация Червя из «Безымянного»:
один в грязи да чернота да уверен задыхаясь да кто-то меня слышит нет никто меня не слышит нет бормоча иногда да когда прекращается одышка да в другие моменты нет в грязи да в грязи да я да мой собственный голос да он не принадлежит никому другому нет только мне да уверен да когда прекращается одышка да время от времени несколько слов да несколько обрывков да которых никто не слышит да но все реже и реже нет ответа ВСЕ РЕЖЕ И РЕЖЕ да[277].
Если «Безымянный» изобилует запятыми, то в «Как есть» знаков пунктуации нет вообще: попытка «оттеснить» слова в прошлое уступает место стабилизации вне конкретного времени и пространства. Стремление как-то структурировать повествование, придать ему некую форму приводит к тому, что все свое существование безымянный герой делит на три периода: до Пима, вместе с Пимом и после Пима. Тем самым создается видимость временной последовательности, прогрессии. Проблема, однако, состоит в том, что встреча рассказчика и Пима сама не укоренена во времени, это некая абстрактная точка, которая не может служить реальным ориентиром, поскольку не отсылает ни к каким иным точкам времени или пространства. Куда ползет герой, он не знает сам, вокруг только грязь, однородность которой делает абсурдной саму идею поступательного движения, идею времени. «Разве есть какой-либо счет в воде?» — спрашивал себя Хармс; тем более никакого счета нет в грязи, вот почему беккетовский текст, в сущности, бесконечен. «Что-то никогда не начиналось, а потому никогда и не кончится», — могли бы мы сказать вместе с Хармсом (Чинари—2, 393). То, что конец романа отнюдь не является концом дискурса, следует из специфического употребления глагольных времен: так, условное наклонение («я мог бы сдохнуть») превращается в непосредственное будущее время («Я сдохну»), которое, в свою очередь, уступает место настоящему («ладно ладно конец третьей и последней части») и прошедшему («вот как было конец цитаты после Пима»). Однако после того как происходит возвращение к настоящему времени («как есть»), надежда на то, что все уже в прошлом, становится совсем призрачной. К тому же само название романа «Как есть» (по-французски «Comment c’est») является почти точным омофоном инфинитива глагола «начинать» (commencer); «вечно нейтральный», по словам Делеза, инфинитив демонстрирует здесь опасность отказа от времени, опасность, которая всерьез угрожала как метафизическому и художественному проекту Беккета, так и «реальной поэзии» обэриутов.