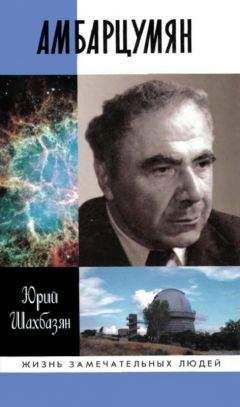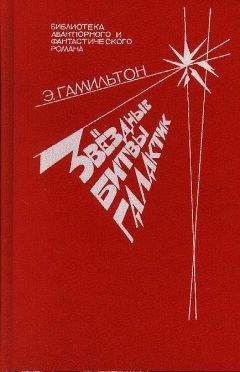Иэн Сэнсом - Бумага. О самом хрупком и вечном материале
Примем за данность: процесс распространения научно-технического знания всегда происходил и происходит сейчас при посредстве бумаги, а ничего похожего на “телепатически передаваемую мудрость”, описанную инженером-футурологом Бакминстером Фуллером в “Критическом методе” (Critical Path, 1981), попросту не существует. Научное знание дает наилучший эффект, будучи изложенным в письменном виде. Лабораторные журналы по-прежнему остаются одним из важнейших инструментов ученого-экспериментатора. Это очевидно. Не менее очевидно, что история науки — это в первую очередь история научной полемики, которая разворачивается опять же на бумаге. Однако на бумаге, и об этом приходится напоминать, происходили не только теоретические дискуссии, но и создавались вполне реальные пространства для занятия наукой, для экспериментов, для демонстрации ее успехов заинтересованной публике. Бумага способствовала превращению метафизики как таковой в метафизику прикладную. Примером такого превращения может служить лондонский Музей естественной истории.
В середине XIX века директор отдела естественной истории Британского музея, зоолог Ричард Оуэн решил, что подведомственный ему отдел достоин собственного музея, и принялся отстаивать эту точку зрения в статьях, письмах и при личных встречах с влиятельными людьми. В 1858 году больше сотни ученых-естественников подписали письмо к канцлеру казначейства о том, в сколь плачевном виде представлена естественнонаучная коллекция в стенах Британского музея. Томас Гексли и Чарльз Дарвин вдвоем составили собственную петицию. Затем Ричард Оуэн опубликовал брошюру “О размерах и назначении Национального музея естественной истории” (On the Extent and Aims of a National Museum of Natural History, 1862). Были собраны деньги и объявлен конкурс на постройку музейного здания. Победителем признали Фрэнсиса Фоука — он лучше других участников конкурса рисовал изометрические проекции. Построенный по его проекту новый естественноисторический отдел Британского музея, известный нам ныне под именем Музея естественной истории, одна из жемчужин лондонского Альбертополиса, открылся для посетителей в первый понедельник после Пасхи 1881 года. Случилось это благодаря если не бумаге, то во всяком случае ее весомому участию.
Историй о том, как бумага выступала движущей силой тех или иных направлений науки и техники, прямо-таки не счесть. Одна, например, довольно изящно изложена инженером Генри Петроски в книге “Маленький газетчик: Исповедь будущего инженера” (Paperboy: Confessions of a Future Engineer, 2002). Петроски вспоминает в ней о той поре своей юности, длившейся, если быть точным с 1 августа 1954 года по 25 января 1958-го, когда он работал разносчиком газеты “Лонг-Айлендпресс” в своем родном Квинсе. Автор утверждает, что этот опыт позволил ему глубоко прочувствовать понятия “расстояния, времени и количества” и повлиял, таким образом, на выбор жизненного пути.
“Сколько газет должен развести разносчик — это математика, как он их доставит — инженерное дело. Сколько газет помещается в его почтовую сумку — математика, сколько еще в нее можно впихнуть сверх нормы — инженерное дело. Как с таким грузом едет велосипед — это физика, как мальчишке удается въезжать в горку — инженерное дело. Как лучше бросать газеты на ступеньки — физика, как газетчик их бросает — инженерное дело. Как газеты должны приземляться в нужном месте — физика, как они приземляются — инженерное дело. Как типографская краска пачкает ему руки — физика, как он их отмывает — инженерное дело”.
Или более солидный пример. В книге “Двойная спираль” (The Double Helix, 1968), посвященной открытию структуры ДНК, Джеймс Уотсон описывает, как они с коллегами в Кавендишской лаборатории Кембриджского университета, ломая головы над устройством молекулы ДНК, строили модели — не какие-нибудь абстрактные, а вполне себе осязаемые металлические модели. Как-то, вернувшись после обеда к себе в кабинет, Уотсон обнаружил, что нужные ему для работы металлические модели пуринов и пиримидинов еще не готовы. Будучи “не в силах столько времени томиться в неизвестности”, он “остаток дня потратил на вырезание точных изображений этих оснований из толстого картона”. На следующее утро, пишет Уотсон, “я быстро убрал со своего стола все бумаги, чтобы получить большую ровную поверхность, где можно было бы складывать пары оснований, соединенных водородными связями… Вдруг я заметил, что пара аденин — тимин, соединенная двумя водородными связями, имеет точно такую же форму, как и пара гуанин — цитозин, тоже соединенная по меньшей мере двумя водородными связями. Эти водородные связи образовывались как будто вполне естественно: чтобы придать обеим парам одинаковую форму, не приходилось прибегать ни к каким натяжкам”[48]. А уже в обед коллега и сотрудник Уотсона Фрэнсис Крик похвалялся в баре, что они “раскрыли тайну жизни”.
Что бы там ни раскрыли Уотсон с Криком, Ответ на Главный Вопрос Жизни, Вселенной и Всего на Свете — это, конечно же, “сорок два”. Так, во всяком случае, полагает суперкомпьютер Глубокомысленный из романа Дугласа Адамса “Автостопом по галактике” (The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, 1979). (Почему “сорок два”? По одной из версий, Адамс выбрал это число, потому что именно столько строчек помещается в среднем на странице классического английского пейпербэка. Но, скорее всего, просто решил, что “сорок два” — это смешно.)
Как прекрасно известно всякому любителю стим— и киберпанка, бумага сыграла заметную роль в создании и эволюции компьютеров. Так, картонные перфокарты были важным компонентом знаменитой “аналитической машины” Чарльза Бэббиджа, первого в истории универсального программируемого счетного устройства. Идею картонных перфокарт Бэббидж позаимствовал у Жозефа Мари Жаккара — с их помощью программировалась “жаккардова машина”, изобретенный им ткацкий станок для выработки узорчатых тканей. Этот станок вообще занимает важное место не только в истории техники, но и в эволюции человечества, поскольку он, как пишет Мануэль Де Ланда в книге “Война в эпоху умных машин” (War in the Age of Intelligent Machines, 1991), “впервые позволил передать управление механизмом от человеческого тела машине, представленной примитивной программой, записанной с помощью отверстий в картонных карточках, этим прообразом современного программного обеспечения”.
Действие романа Уильяма Гибсона и Брюса Стерлинга “Машина различий” (The Difference Engine, 1991) происходит в преображенном “машиной Бэббиджа” технологически и технически продвинутом викторианском Лондоне при премьер-министре лорде Байроне. Лондонцы и шага не могут сделать без бумаги: все носят при себе “гражданские карточки”, служащие одновременно удостоверениями личности и кредитными картами, бесконечно что-то печатают на бумажной ленте принтеры, а программистов называют “клакерами” из-за звука, с каким картонные карты проходят сквозь нутро медных паромеханических компьютеров. Скажете, такое возможно только в мире, порожденном богатой фантазией? И будете не правы. В середине XX века функционирование компьютерного гиганта
“Ай-Би-Эм” целиком обеспечивалось бумагой — знаменитые перфокарты (“Не складывать, не прокалывать и не мять”) только к концу 1960-х уступили место магнитной ленте. В компании “Майкрософт” на бумаге работают и в наши дни — при создании пользовательского интерфейса все его экраны, меню и команды сначала прорисовываются на ней. Даже забавно, что в основе разработки программного обеспечения, на которое уходят миллионы, лежит старый добрый рисунок на бумаге.
Далеко не забавной, а очень даже серьезной была роль бумаги в истории медицины и гигиены. Бумажные хирургические халаты, маски, шапочки, бинты для нас абсолютно в порядке вещей. Но в начале XVII века люди на Западе не подозревали даже о существовании бумажных носовых платков. В 1613 году даймё Датэ Масамунэ, прозорливый одноглазый военачальник, отправил в Европу посольство во главе со своим самураем Хасэкурой Цунэнагой. Японцы произвели на европейцев глубочайшее неизгладимое впечатление и тем, среди прочего, что у них постоянно была при себе ханагами, “цветочная”, или “носовая” бумага — в нее они сморкались, ею вытирали лицо и руки, после чего небрежным жестом выкидывали. Маркиза Сен-Тропе вспоминает, какой эффект эта их манера произвела во Франции: “Когда кто-то из японцев, воспользовавшись бумажным носовым платком, кидал его на мостовую, люди бросались поднимать его. Бывало, в борьбе за драгоценный сувенир затевались настоящие драки”.
Обычай вытирать бумагой руки и рот, скорее всего, возник в VI веке в Китае; а в XIV веке, как утверждает величайший из великих синологов Джозеф Нидэм, в одной из китайских провинций уже изготавливали десять миллионов упаковок туалетной бумаги в год. Остальной мир от китайцев в этом смысле долго отставал: в Древнем Риме вместо туалетной бумаги использовали палочку с губкой на конце, а эскимосы, по некоторым сообщениям, мох и снег; где-то люди обходились раковинами мидий, кокосовой скорлупой, кукурузными початками, галькой, черепками… а то и вовсе руками. В прославленной главе “про изобретение подтирки” романа “Гаргантюа и Пантагрюэль” (1533–1564) Франсуа Рабле Гаргантюа сообщает отцу, что он “после долговременных и любопытных опытов изобрел особый способ подтираться”. В ходе опытов герой пробовал употреблять: женскую бархатную полумаску (“прикосновение мягкой материи к заднепроходному отверстию доставило мне наслаждение неизъяснимое”), атласные наушники (“но к ним, оказывается, была прицеплена уйма этих поганых золотых шариков, и они мне все седалище ободрали”), мартовскую кошку (“она мне расцарапала своими когтями всю промежность”). Потом в ход пошли растения: “подтирался я еще шалфеем, укропом, анисом, майораном, розами, тыквенной ботвой, свекольной ботвой, капустными и виноградными листьями, проскурняком, латуком, листьями шпината”, вслед за ними — разнообразные изделия из ткани: “простыни, одеяла, занавески, подушки, скатерти, дорожки, тряпочки для пыли, салфетки, носовые платки, пеньюары” и всякие шляпы (“лучше других шляп шерстистые — кишечные извержения отлично ими отчищаются”). Перейдя к живности, Гаргантюа подтирался “курицей, петухом, цыпленком, телячьей шкурой, зайцем, голубем, бакланом, адвокатским мешком, капюшоном, чепцом, чучелом птицы”. В итоге, после всех действительно впечатляющих опытов он пришел к выводу: “Лучшая в мире подтирка — это пушистый гусенок… только когда вы просовываете его себе между ног, то держите его за голову”[49].