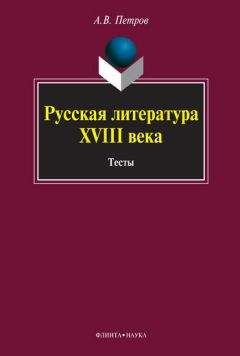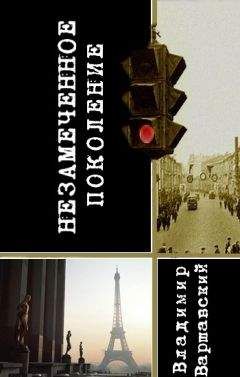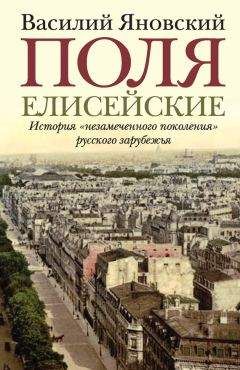Ирина Каспэ - Искусство отсутствовать: Незамеченное поколение русской литературы
Именно на таком раздвоенном взгляде обычно основывается столь актуальный для авторов «Чисел» сюжет гибели, умирания. Определенный канон говорения о смерти был задан Георгием Ивановым в поэтическом цикле «Розы»[485]:
Глядя на огонь или дремля
В опьяненьи полусонном —
Слышишь, как летит земля
С бесконечным, легким звоном.
Слышишь, как растет трава.
Как джаз-банд гремит в Париже, —
И мутнеющая голова
Опускается все ниже.
Так и надо. Голову на грудь
Под блаженный шорох моря или сада.
Так и надо — навсегда уснуть,
Больше ничего не надо[486].
Сравнив этот текст, скажем, с написанным в России несколькими годами позже известным стихотворением Ахматовой «Творчество» из цикла «Тайны ремесла»:
Бывает так: какая-то истома;
В ушах не замолкает бой часов;
Вдали раскат стихающего грома.
Неузнанных и пленных голосов мне чудятся и жалобы и стоны,
Сужается какой-то тайный круг,
Но в этой бездне шепотов и звонов
Встает один, все победивший звук.
Так вкруг него непоправимо тихо,
Что слышно, как в лесу растет трава,
Как по земле идет с котомкой лихо…
Но вот уже послышались слова
И легких рифм сигнальные звоночки, —
Тогда я начинаю понимать,
И просто продиктованные строчки
Ложатся в белоснежную тетрадь[487], —
мы увидим, насколько может быть близка вполне традиционная символика поэтического всеведения (в русской литературной традиции она ассоциируется прежде всего с пушкинским «Пророком») к тому образу алкогольного, сновидческого, а в конечном счете — предсмертного всеведения, который приковывает внимание Иванова. Чтобы превратить риторику творчества в риторику умирания, потребовалось декларативно упразднить инстанцию читателя, но фактически оставить за ней функцию подглядывания, подслушивания и сопереживания («жалости», как сказал бы Борис Поплавский). Погружаясь в глубины и соприкасаясь с предельным, наши герои оставляют на поверхности преданного наблюдателя — идеального, понимающего адресата. Важно, что под опытом смерти здесь в первую очередь подразумевается опыт умирания — опыт балансирования между смертью и жизнью, попытка посмотреть на смерть глазами умирающего и глазами тех, кому предстоит жить дальше.
В поэтических текстах Поплавского подобная оптика, пожалуй, определяющая («<…> Все так же мир высок и прекрасен, / Ярок и предан своей судьбе. / Все так же напрасен подвиг, напрасен, / Все так же больно Тебе. <…> Птицы носятся над садом, / Тихо начал глаз рябить. / Ничего Тебе не надо — / Только все забыть»[488]). Весьма охотно она воспроизводится и другими литераторами, которые причислялись к «молодому поколению» и «парижской школе». К примеру, в стихотворении Владимира Смоленского:
Плывет луна в серебряном огне,
Плывет душа, качаясь в звездной пыли.
И далеко внизу — на самом дне —
Шумит толпа, гудят автомобили.
Земное утверждая бытие,
Ребенок плачет и стучит рабочий.
Плывет душа по волнам вечной ночи
В последнее пристанище свое.
На ледяной постели, у окна,
Спит человек, скрестив на сердце руки,
В его глазах, открытых смертной муке,
Бессмертие, усталость, тишина[489].
В прозе двойная оптика — желание в одно и то же время увидеть «себя со стороны» и «мир как он есть» — скрывается за популярными панорамами большого города (обычно позволяющими заглянуть в чужие окна), за многочисленными описаниями городской толпы, в которой осознает себя главный герой. При помощи таких освоенных в бальзаковском романе парижских ракурсов[490] авторы «Чисел» выделяют самые значимые моменты повествования — чаще всего начало или финал книги. Нередко суггестивные свойства панорам усиливаются падением дождя или снега. Парижские осадки, в изобилии заполняющие «молодую эмигрантскую поэзию», — «Тихо падает снег / На шляпы, трамваи, крыши / Тихо падает снег. / Все глуше, белее, тише»[491]; «Дождь летит у фонарей трамвая / Тонкою прозрачною стеной»[492] — перекочевывают на страницы романов: «Шел дождь, не переставая. Он то отдалялся, то вновь приближался к земле, он клокотал, он нежно шелестел. <…> Он шел, как идет человек по снегу — величественно и однообразно. Он то опускайся, как вышедший из моды писатель, то высоко-высоко пролетал над миром, как те невозвратные годы, когда в жизни человека еще нет никаких свидетелей. <…> Казалось, он идет над всем миром, что все улицы и всех прохожих соединяет он своею серою солоноватою тканью»[493]; «Падал снег. Большими серыми хлопьями, — как подстреленные лебеди? — падал снег. Стелился мягко и густо на тротуары, на провода, на вывески, и рассказывала эта косо опускающаяся завеса о том — о том, что опять и опять наступает зима»[494]. Щемящее чувство, которое возникает при чтении этих мест, если не объяснимо, то во всяком случае предсказуемо — неприкаянный читатель вряд ли сможет отождествить себя с протагонистом, за которым вынужден подглядывать, но вполне способен занять позицию снега или дождя. Собственно это спокойное, мягкое движение, обволакивающее романный мир, и есть ожидаемая реакция идеального, всё понимающего, всё прощающего читателя — читателя, который появится несмотря ни на что, вне зависимости от тех или иных свойств литературного текста. Просто потому, что так заведено в природе — «послание в бутылке» должно быть распечатано.
О результатах такого обращения с читателем можно судить по тем исследовательским языкам, которые преобладают в разговоре о Борисе Поплавском (другие авторы «Чисел» гораздо реже привлекают внимание филологов и историков литературы). Читательский/исследовательский интерес к Поплавскому нередко наделен отчетливым оттенком маргинальности — как если бы маска «проклятого поэта», упорно примерявшаяся Поплавским, вновь оказалась непривычной и неожиданной, вопреки вековой литературной традиции. Поплавский неизменно оказывается на обочине литературы — то в качестве неумелого литератора, графомана[495], то в качестве философа и религиозного деятеля. Выясняется, что его литературные тексты практически невозможно идентифицировать. Их границы размыты: «В принципе и <…> романы, и дневники, и статьи, и бесконечные блистательные монологи (оставшиеся в пересказах современников <…>) — представляют одно целое»[496]. Дефиниции соотносительны: Поплавский назывался и «русским Рембо», и «русским сюрреалистом», сравнивался и с Джойсом, и с Прустом. Поиск интертекстуальных связей здесь настолько результативен, что Поплавский в конечном счете оказывается зеркалом «модернизма», воплощением едва ли не всех процессов, которые происходили в литературе с конца XIX века до 1930-х годов включительно[497]. Все эти распространенные подходы объединяет одна установка — процедура интерпретации, поиска новых смыслов по отношению к литературным текстам Поплавского кажется избыточной. Эти тексты непонятно зачем, непонятно как, непонятно с какой точки зрения интерпретировать: вопросы об их задачах и мотивациях, о регистрах, воздействующих на читателя, пожалуй, наименее востребованы, а если ставятся, то с целью разоблачения «лже-дискурса», который позволяет «субъекту завлечь адресата внутрь текста, превратив его таким образом из собственно адресата общей коммуникации в объект своих личных манипуляций»[498].
Заметим — и авторы «Чисел», и Набоков подвергают идентичность своего читателя серьезному испытанию. В одном случае читатель не знает, что ему делать с текстом, в другом — наоборот, знает слишком хорошо и вынужден следовать скрытым указаниям автора. В обоих случаях конструируется образ идеального — «понимающего» или «проницательного» — адресата, а значит, подчеркивается особая ценность процедур прочтения и интерпретации. В то же время эти процедуры обозначаются как сложные, сопряженные с препятствиями и в конечном счете подавляются: либо через установку на тотальный контроль за возможными вариантами прочтения текста, либо через демонстративную закрытость, недоступность сообщения — текст помечается как непроницаемый, обращенный к читателю исключительно краями и поверхностями. Так или иначе основной целью всех этих манипуляций будет авторское присутствие, пребывание в тексте — представления о мемориальных свойствах литературы здесь лишаются модуса условности, наши герои не просто воздвигают себе нерукотворный памятник, но мумифицируют разнообразные элементы образа «я», оставляя в тексте следы реального имени, реальной судьбы, реального опыта. Ситуация самопредставления и самоконструирования оказывается не условной, но скрытой, завуалированной.