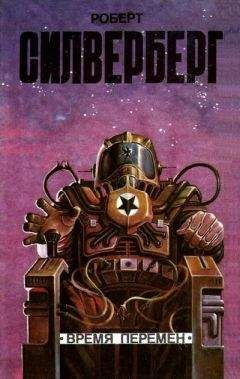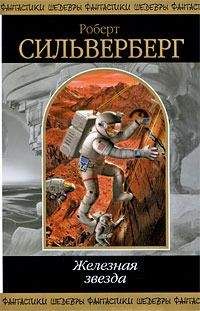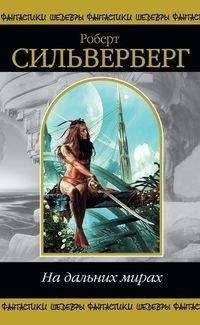Роберт Силверберг - Время перемен
– У тебя неприятности, Кинналл?
– С чего ты это взял?
– У тебя заострилось лицо. У тебя какая-то странная улыбка. Улыбка человека, который хочет показаться беззаботным. У тебя красные глаза, и ты их стараешься отвести, словно не хочешь смотреть прямо на собеседника.
Что-нибудь не так?
– Эти несколько месяцев были самыми счастливыми, – ответил я, возможно, даже слишком пылко.
Ноим не обратил внимание на мой ответ:
– У тебя неприятности с Лоимель?
– Пожалуйста, Ноим, ты даже не поверишь, как…
– Перемены написаны на твоем лице, – перебил он меня. – Неужели ты будешь отрицать, что в твоей жизни произошли перемены?
Я пожал плечами:
– Ну и что? А если и так?
– Изменения к худшему?
– Пожалуй, нет.
– Ты уклоняешься от вопросов, Кинналл. Для чего же тогда побратим, если не поделиться с ним своими заботами?
– Особых-то забот и нет, – настаивал я.
– Очень хорошо, – и он прекратил расспросы. Но я заметил, что в течение всего этого вечера побратим внимательно наблюдал за мной. А утром, за завтраком, он вновь вернулся к нашему разговору. Я ничего не мог скрыть от него. Мы сидели за бокалами голубого вина и беседовали об урожае в Салле, о новой программе Стиррона по преобразованию налогообложения, говорили о вновь возникших трениях между Саллой и Глином, о кровавых пограничных инцидентах, которые недавно стоили жизни моей сестре. И все это время Ноим наблюдал за мной. Халум завтракала с нами, и мы вспоминали о своем детстве, но и тогда Ноим не сводил с меня глаз. Глубина и сила его участия терзали меня. Вскоре он наверняка станет расспрашивать других, постарается выудить из разговоров с Лоимель или Халум какие-нибудь проясняющие подробности и может возбудить в них тревожное любопытство. Я не мог допустить этого. Ноим должен знать, что стало главным в жизни его побратима. Вечером того же дня, когда все разошлись, я отвел Ноима в свой кабинет, открыл тайник, где хранился белый порошок, и спросил, знает ли он что-нибудь о шумарском снадобье. Он сказал, что даже не слышал о нем. Я коротко описал ему действие порошка. Лицо его помрачнело, и он как-то внезапно стих.
– И часто ты употребляешь эту дрянь? – наконец вымолвил Ноим.
– Пока всего одиннадцать раз.
– Одиннадцать? И для чего, Кинналл?
– Чтобы лучше узнать, что из себя представляет собственная душа через восприятие других, – смело ответил я.
Ноим взорвался хохотом:
– Неужели самообнажение? Ну ты даешь, Кинналл!
– С годами вырабатываются странные привычки, брат.
– И с кем же ты играешь в эти игры?
– Их имена не имеют для тебя никакого значения, – уклонился я. – Ты не знаешь никого из них. Если говорить в общем, то это жители Маннерана, любители приключений, которые не боятся риска.
– Лоимель?
Теперь настала моя очередь смеяться.
– Она об этом даже и не помышляет.
– А Халум?
Я покачал головой:
– Хотелось бы набраться смелости и предложить ей попробовать. Но пока я все скрываю от нее. Из страха, ведь она слишком непорочна и к тому же легко ранима. Печально, не так ли, Ноим, что приходится скрывать нечто замечательное, нечто удивительное от своей названой сестры.
– И от названого брата тоже!
– Тебе об этом со временем было бы обязательно сказано. Может, попробуешь?
Глаза его сверкнули.
– И ты думаешь, надо попробовать? Нет, я не хочу!
Он непристойно выругался, что вызвало у меня всего лишь легкую усмешку.
– Есть надежда, что побратим разделит все, что довелось испытать.
Сейчас это средство откроет пропасть между нами, ибо приходилось бывать в таких местах, где ты никогда не был. Понимаешь, Ноим?
Брат кивнул. Я ввел его в искушение – это было видно по его лицу. Он кусал губы и потирал мочку уха, и все, что происходило в его мозгу, было мне ясно, будто мы уже разделили с ним снадобье с Шумары. Из-за меня Ноим испытывал серьезное беспокойство: он понял, что я слишком далеко ушел от заповедей Завета и что, возможно, вскоре у меня будет крупнейший разлад как с самим собой, так и с законом. Однако ему не давало покоя собственное любопытство. Он сознавал, что предельная откровенность со своим побратимом – не бог весть какой грех, и ему трудно было устоять против соблазна вступить в общение со мной под воздействием этого наркотика. К тому же он испытывал ревность: ведь я обнажал свою душу перед другими людьми, какими-то незнакомцами, а не перед ним. Скажу вам честно, когда потом душа Ноима была открыта передо мной, мои мысли о теперешнем состоянии брата подтвердились.
Несколько дней мы не говорили об этом. Ноим приходил ко мне на работу и с восхищением смотрел, как я управляюсь с делами. С делами высочайшей государственной важности! Он видел, как почтительно относились ко мне служащие. Брат встретился с тем самым Улманом, которому я давал снадобье и равнодушная фамильярность которого вызвала у него подозрение. Мы вместе наведались к Швейцу и опустошили не один графин доброго вина, обсуждая различные религиозные темы, добродушно и искренне переругиваясь, возбужденные хмельными напитками. («Вся моя жизнь, – сказал Швейц, – была поиском действительных причин того, что я понимал как иррациональное»).
Ноим заметил некоторые грамматические вольности в речи Швейца. В другой вечер мы обедали в обществе маннеранских аристократов в роскошном доме свиданий на холме, с которого открывалась панорама города. Это были маленькие, похожие на птиц, мужчины, нарядно одетые, суетливые, и огромные молодые красавицы-жены. Ноиму быстро наскучили эти худосочные герцоги и бароны и их разговоры о торговле и драгоценностях. Но он сразу же насторожился, услышав о каком-то зелье, попавшем в столицу с южного материка, которое якобы способно распечатать сознание. На это я откликнулся только вежливым междометием, выражавшим удивление. Увидев мое лицемерие, Ноим свирепо сверкнул на меня глазами, и даже отказался от бокала нежного маннеранского брджи: столь натянутыми стали его нервы.
На следующий день мы вместе пошли в Каменный Собор, но не на исповедь, а просто чтобы посмотреть на древние реликвии, которые всегда интересовали Ноима. Нам повстречался исповедник Джидд и как-то странно мне улыбнулся. Я сразу же заметил, что Ноим стал прикидывать, не поймал ли я его в свои сети? Я видел, как в Ноиме закипает желание вернуться к тому разговору, но он никак не может решиться. Я же молчал. В конце концов накануне своего отъезда в Саллу Ноим не выдержал.
– Это твое снадобье… – начал он неуверенно.
Побратим сказал далее, что не сможет считать себя настоящим побратимом, если не отведает моего снадобья. Эти слова дались ему с огромным трудом: на верхней губе выступили капельки пота. Мы отправились в комнату, где нам никто не мог помешать, и я приготовил лекарство. Взяв в руки бокал, брат дерзко улыбнулся мне, но рука его тряслась так, что он едва не пролил зелье на пол.
Оно быстро подействовало на нас обоих.
В этот вечер была необычно высокая влажность, густой туман покрыл весь город и его окрестности. Казалось, он проник и в нашу комнату через полуоткрытое окно. Я видел, как дрожащие, мерцающие туманные сгустки танцевали между мной и Ноимом. Первые же ощущения, вызванные наркотиком, встревожили брата, но я объяснил, что так и должно быть: удвоенное сердцебиение, ватная голова, высокие зудящие звуки. Теперь мы были обнажены друг перед другом. Я изучал внутренний мир Ноима, познавал не только его сущность, но и его представления о самом себе, покрытые налетом стыда и презрения. Ноим яростно ненавидел свои воображаемые недостаткам, а их было немало. Он обвинял себя в лени, отсутствии самодисциплины и честолюбия, недостаточной набожности, небрежном отношении к высоким обязанностям, физической и душевной слабости. Почему он видел себя таким, я не мог понять. Рядом с этим вымышленным образом был настоящий Ноим человек крутого нрава, преданный тем, кого любил, жесткий по отношению к глупости, проницательный, отзывчивый, энергичный. Контраст между выдуманным Ноимом и настоящим был ошеломляющим. Казалось, что он мог трезво судить обо всем на свете, кроме собственной личности. Я уже и раньше наблюдал подобные противоречия, экспериментируя с другими партнерами. Фактически такое презрительное отношение встречалось у всех, кроме Швейца: очевидно, он не имел воспитанной с детства склонности к самоуничтожению. Однако Ноим был слишком критичен к себе.
Как и прежде, я увидел собственный образ, отраженный в восприятиях Ноима, – гораздо более благородный Кинналл Дариваль, чем это казалось мне самому. Как он идеализировал меня! Я был воплощением всех его представлений об идеале, человеком действия и доблести, умевшим осуществлять свою власть и получать желаемое, я был врагом праздности, примером строжайшей внутренней самодисциплины и набожности. Однако на этом образе выделялись свежие пятна, ибо теперь я, осквернив Завет, не только занимался грязным душевным развратом с одним, другим, третьим, но и соблазнил своего побратима участвовать в преступном эксперименте. Увидел также Ноим истинную глубину моих чувств к Халум. Сделав это открытие, которое подтвердило его старые подозрения, он сразу же изменил мой образ, причем не в лучшую сторону.