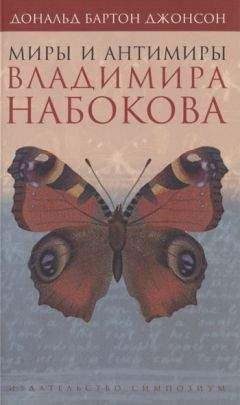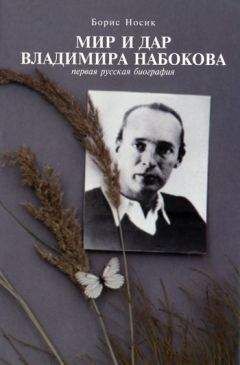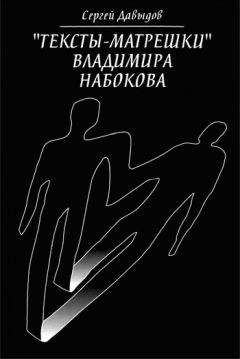Нора Букс - Эшафот в хрустальном дворце: О русских романах В. Набокова
«…Чернышевский не отличал плуга от сохи […] не мог назвать ни одного лесного цветка, кроме дикой розы, но характерно, что это незнание ботаники сразу восполнял „общей мыслью“, что „они (цветы сибирской тайги) все те же самые, какие растут по всей России“…»
(с. 273)Таким образом, общая истина при минимальной конкретизации обнаруживает свою полную несостоятельность, а в частном случае служит лишь прикрытием пустоты и невежества.
Однако образ дерева, как и другие образы эпиграфа, наравне с пародией реализуется в романе и в возвышенном, поэтическом значении, возвращающем ему истинный голос. Например, изображения деревьев в описаниях путешествий отца (гл II.), прогулки Федора в лесу (гл. V), или изображения розы в поэзии: «Обедневшие некогда слова вроде „роза“, совершив полный круг жизни, получали теперь в стихах как бы неожиданную свежесть» (с. 46).
С особой силой опровергаются в романе два последних утверждения эпиграфа.
1. «Россия — наше отечество» (с. 9). Объектом пародии становится:
— ностальгическая любовь к России прошлого: «В стихах, полных модных банальностей, воспевал „горчайшую“ любовь к России» (с. 46) Яша Чернышевский;
— желание быть признанным на родине: см. уже приводившиеся выше стихи Годунова-Чердынцева: «Благодарю тебя, отчизна» (с. 66). Тема подхватывается еще раз в финале романа. Зина говорит Федору: «Я думаю, ты будешь таким писателем, какого еще не было, и Россия будет прямо изнывать по тебе, — когда слишком поздно спохватится…»(с. 409);
— идея возврата на родину: один из примеров ее воплощения осуществляется сквозь гоголевскую цитату, которая актуализируется в контексте романа. Годунов-Чердынцев, прислушиваясь к Зининым перемещениям по квартире, борясь с желанием оторваться от книги и пойти к ней, читает:
«„Долее, долее, как можно долее буду в чужой земле. И хотя мысли мои, мое имя, мои труды будут принадлежать России, но сам я, но бренный состав мой, будет удален от нее“ (а вместе с тем, на прогулках в Швейцарии, так писавший колотил перебегавших по тропе ящериц, — „чертовскую нечисть“, — с брезгливостью хохла и злостью изувера) [ср. с приводимой выше цитатой из эссе „Николай Гоголь“. — Н. Б.] Невообразимое возвращение!»
(с. 202);— возвращение на родину объявляется в романе возможным только силою памяти и творческого воображения: примеры — первые страницы гл. II — прогулки Федора по дорожкам Лешино (с. 89–92);
— буквальное возвращение приравнивается к переходу в Царство мертвых: так, покупая новые ботинки, Федор думает: «Вот этим я ступлю на брег с парома Харона» (с. 74). И далее, в диалоге с Кончеевым:
«Знаете о чем я сейчас подумал: ведь река-то, собственно, — Стикс. Ну да ладно. Дальше. И к пристающему парому сук тянется, и медленным багром (Харон) паромщик тянется к суку сырому (кривому) […] и медленно вращается паром. Домой, домой. Мне нынче хочется сочинять с пером в пальцах».
(с. 86–87)[263]Набоковский вольный перевод 302-й строки из песни VI «Энеиды» Вергилия внезапно обрывается на словах «вращается паром», и не отделенные кавычками строки сливаются с фразой, лежащей в ситуативном сознании поэта Годунова-Чердынцева: «Домой, домой» (см. упоминание «Энеиды», сделанное выше)[264];
— в романе объявляется новый смысл понятия «родина»: подмена происходит путем перевода из категории внешней, пространственной — в категорию внутреннюю, эмоциональную, устанавливается другая география чувств.
«Не следует ли раз навсегда отказаться от всякой тоски по родине, от всякой родины, кроме той, которая со мной, во мне, пристала как серебро морского песка к коже подошв, живет в глазах, в крови, придает глубину и даль заднему плану каждой жизненной надежды?» — думает Федор (с. 197).
2. «Смерть неизбежна» (с. 9). Это последнее правило эпиграфа (конец жизни — конец жизненных истин) опровергается в «Даре» в первую очередь в его буквальном значении: смерти как финала жизни. Доказательством может служить уже рассмотренное выше воплощение в романе смерти как условия воскресения-воспроизведения и, следовательно, приобретения бессмертия.
Наравне с идейной оппозицией роману эпиграф реализует и оппозицию художественную. Например, в «Даре», в главе IV, приводится цитата из письма Чернышевского сыновьям, в котором он критикует Фета:
«Можно ли писать по-русски без глаголов? Можно — для шутки. Шелест, робкое дыханье, трели соловья. Автор ее некто Фет, бывший в свое время известным поэтом. Идиот, каких мало на свете. Писал это серьезно, и над ним хохотали до боли в боках».
(с. 269)Стихотворение Фета как образец «чистой» лирики выстраивается параллелью эпиграфу, составленному из набора правил, написанных также без глаголов. Сопоставление двух разных текстов, первого — литературного, второго — образовательного, информативного, допустимое за счет использования одного стилистического приема, с особой яркостью демонстрирует контрастность его художественных возможностей. В стихе безглагольность манифестирует эскизность, иллюзорность, неопределенность, подвижность:
Серебро и колыханье
Сонного ручья,
Свет ночной, ночные тени,
Тени без конца,
Ряд волшебных изменений
Милого лица,
В дымных тучках пурпур розы,
Отблеск янтаря…[265]
В эпиграфе — категоричность, статичность, неизменность выдвигаемых утверждений.
Примечательно и то, что взаимодействие этих двух текстов, не принадлежащих перу Набокова, осуществляется именно в пределах его произведения.
«Дар» и его эпиграф с точки зрения их художественного определения могут рассматриваться как своеобразное воплощение одной из ведущих тем романа: поэт и импровизатор. Эпиграфом ко второй главе «Египетских ночей» Пушкина служит строка из оды Г. Державина «Бог»:
Я царь — я раб, я червь — я Бог!
Написанная также без глаголов, она является тематическим пунктиром «Дара», в романе реализованы все названные ипостаси поэта. Это стилистическое и тематическое сходство (сходство перекрестное: стилистическое с эпиграфом, тематическое с романом) допускает мысль, что пушкинский эпиграф — неназванный, предлагаемый к обнаружению «оригинал» — исходный эпиграф к «Дару».
5Особого внимания заслуживает рассмотрение композиционных особенностей «Дара», фактически определяющих порядок его прочтения.
Пять глав, объединенных героем/рассказчиком в цельное повествование биографического романа, вместе с тем отличаются большой сюжетной и композиционной свободой. Каждая из них снабжена доминирующим и тематически автономным текстом. В границах романа главы могут меняться местами, выпускаться (пример тому глава IV «Дара»), и все это без особого ущерба для развития сюжета. Перестановка возможна и внутри самих глав, а также отдельные композиционные единицы текста из разных глав могут объединяться и легко менять свой адрес в повествовании.
Такая демонстративная композиционная свобода «Дара» сообщает ему признаки идеального романа, который читается в любом порядке. Большая вариативность прочтения в действительности не влияет на читательское проникновение в текст; она обусловлена не столько композиционной вольностью, сколько строгой композиционной заданностью.
Первые признаки ее обнаруживаются в обилии симметрических построений в тексте. А симметрия объявляется в «Даре» условием подчинения, несвободы. Пример:
«Симметричность в строении живых тел (говорит Чердынцев. — Н. Б.) есть следствие мирового вращения […] В порыве к асимметрии, к неравенству слышится мне вопль по настоящей свободе, желание вырваться из кольца».
(с. 384)Симметрия в романе существует:
— между главами, например, I и V — в обеих расположены диалоги поэтов, собрания литераторов;
— внутри глав, например, в главе I: сопоставление двух молодых поэтов Федора Чердынцева и Яши Чернышевского; в главе III — сопоставление тем отца и отчима, и т. д.
Другой композиционной фигурой подчинения, фактически определяющей для «Дара», является кольцо. Жизнеописание Чернышевского, которое Годунов строит «в виде кольца, замыкающегося апокрифическим сонетом» (с. 230), становится композиционной моделью романа, а прием манифестируется как эстетическая установка, как отказ от конечности книги, «противной кругообразной природе всего сущего» (с. 230).
Глава IV — образец композиционной замкнутости: смерть героя смыкается с рождением, темы жизни, «совершив полный круг» (с. 230), получают завершение в финале, и, наконец, весь текст обрамлен сонетом. Обращает на себя внимание его форма — опрокинутого сонета, — очередной пародийный намек на судьбу героя, напоминавшую «обратный ход вечного двигателя» (с. 245).