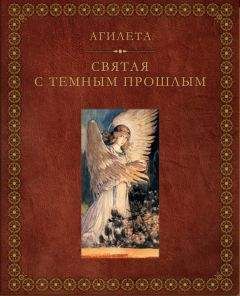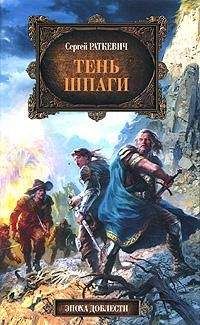Игорь Смирнов - Роман тайн «Доктор Живаго»
Прочее же речемъ и о сих, еже еретицы глаголють, — яко аще и подобаеть судити или осужати еретики или отступники, но царемь, и княземъ, и святителемъ, и судиямъ земъским, а не инокомъ, иже отрекошась от мира и всѣхъ яже в мире, и подобаетъ имъ точию себѣ внимати, и никого же осужати, ни еретика, ниже отступника[325] [далее автор приводит длинный список опровергающих это воззрение исторических прецедентов. — И. С.].
Зосима считает, что люди вообще не должны судить друг друга, но он и идет за Иосифом Волоцким, требуя от монахов, чтобы они руководили мирянами, которые тем непременнее отвергнут от себя атеистов:
…от нас и издревле деятели народные выходили, отчего же не может быть их и теперь? Те же смиренные и кроткие постники и молчальники восстанут и пойдут на великое дело [Зосима предвидит превращение исихастов в проповедников. — И. С.]. От народа спасение Руси. Русский же монастырь искони был с народом […] Народ встретит атеиста и поборет его […] Берегите же народ и оберегайте сердце его. В тишине воспитайте его [инок-педагог стоит для Зосимы на первом месте, но, говоря о «тишине», он совершает примирительную христианскую уступку в отношении исихастов. — И. С.].
(14, 285)Испанская инквизиция началась с разоблачения тайных иудеев. Ее восторженным поклонником на Руси был новгородский архиепископ Геннадий, продолжателем дела которого выступил Иосиф Волоцкий, ополчившийся на жидовствующих. Как и Великий инквизитор в «Легенде», рассказанной Иваном, Зосима в «Братьях Карамазовых» — сторонник церковного суда. Понятно, что Великий инквизитор и Зосима — антиподы, но между ними есть и нечто общее — то самое, что проложило себе путь в осифлянстве и связало Русь с Испанией в конце XV — начале XVI в.
Итак, Достоевский не приемлет тип такого монашества (исихазм), которое в своем антиутилитаризме в известном смысле выступает аналогом искусства для искусства, и солидаризируется с иноками-прагматиками (осифлянами).
2.5.1.Чтобы разобраться в Смердякове, нужно принять во внимание ставшую знаменитой в нашем столетии четвертую главу из «Феноменологии Духа»[326], в которой Гегель рассуждает о «слуге» и «господине».
Гегель (которого нам придется сейчас сильнейшим образом упростить) исходил из того, что акт самосознания, сознания себя как другого, уравнивает наше бытие-в-себе и наше бытие-для-другого и что встреча двух самосознаний может быть только их схваткой не на жизнь, а насмерть, ибо для обоих в этом случае другое перестает быть заключенным в них самих. Самосознание не укоренено в жизни и в принципе готово к отказу от нее. Но убийство другого, далее, диалектически подрывает в нас уверенность в себе, раз нас конституирует самосознание, невозможное без другого-в-нас. Так место убийственного поединка занимается «господином» и «слугой». Власть имущий соотносится с вещью опосредованно, через подчиненных. Для них же остается лишь утверждать их самостоятельность в самостоятельности вещей. Гегелевский «кнехт», обладая самосознанием, отрицает вещь, но, нуждаясь в ней, не уничтожает ее, сохраняет ее самостоятельность — он ее обрабатывает. «Господин» самоудовлетворен, он наслаждается вещью. «Слуге», в той мере, в какой он стремится к противоположному, чем то, что он есть, процесс труда позволяет увидеть самостоятельность бытия как его собственную. «Слуга» историчен, и только он способен найти в работе чистое бытие-для-себя (что снимает дилемму себя и другого, определяющую поначалу самосознание).
Тема господ и слуг в «Братьях Карамазовых» чрезвычайно сложна для анализа, и здесь мы ограничимся самыми предварительными соображениями по поводу ее ближайшей связи с «Феноменологией Духа»[327].
2.5.2.Достоевский выводит господина по Гегелю (Федор Павлович жаждет безудержного наслаждения жизнью), но безоговорочно противопоставляет «лакея» Смердякова «кнехту» из «Феноменологии…». Смердяков переходит к бытию-для-себя не через труд (хотя он и — знаменательным образом — «артист» (14, 113) в своей поварской профессии), но через преступление (оно призвано обеспечить ему денежные средства для самодеятельной жизни в Париже). Скидывание с себя рабства не обходится без правонарушения. Но этого мало. Достоевский возражает Гегелю на гегелевский же, диалектический, манер: освобождение от господина влечет за собой освобождение слуги от самого себя (Смердяков кончает самоубийством; вообще говоря, «Братья Карамазовы», где все превращается в собственное другое, можно было бы и в целом рассматривать как диалектически организованную конструкцию — Гегель в них и отрицается, и отрицает[328]).
Смердяков прислуживает одновременно Федору Павловичу и его сыну, называя себя «слугой Личардой верным» (15, 59) Ивана. При последнем свидании со своим вторым господином Смердяков бунтует против него, как до этого против Федора Павловича (рассказчик подчеркивает «небывало высокомерный тон» (15, 59), который слуга позволяет себе в обращении с Иваном). Вот отрывок из последнего диалога между Иваном и Смердяковым:
— Повторяю тебе, если не убил тебя, то единственно потому, что ты мне на завтра нужен… [Ивану требуется свидетель на суде. — И. С.]
— А что ж, убейте-с. Убейте теперь, — вдруг странно проговорил Смердяков, странно смотря на Ивана. — Не посмеете и этого-с, — прибавил он, горько усмехнувшись, — ничего не посмеете, прежний смелый человек-с!
(15, 68)Смердяков предлагает своему бывшему господину не что иное, как возвращение к тому положению дел, которое, согласно Гегелю, предпосылается господству/прислуживанию. Раб, став свободным, — хочет сказать читателям Достоевский, — с неизбежностью возрождает смертоносные поединки, вновь готов жертвовать собой, не продвигается вперед, но откатывается назад, и единственный, кто не заинтересован в этой инволюции, есть господин, оставивший свою «смелость» в прошлом. Гегелевский «Абсолютный Дух» становится в прозвище-фамилии слуги у Достоевского дурным запахом (разумеется, такое «снижение» словесного значения возможно лишь на основе русского перевода названия «Феноменологии…»; немецкое «Geist» не колеблется между семантическими полюсами «идеальное»/«обоняемое»[329]).
2.5.3.Можно было бы подумать, что Достоевский, черпая из Гегеля, персонифицирует на сугубо литературный манер отрицаемые им абстрактные философские идеи. Дело, однако, в том, что в самой «Феноменологии…» отвлеченное предстает в форме прозопопеи, в некоем подобии литературного изложения, в виде исторической драмы, разыгрываемой «слугой» и «господином» (всегдашними театральными персонажами). Возражая Гегелю, Достоевский не соглашается, помимо всего прочего, с философией, инфицированной литературностью, с эстетизированным мышлением, с формулой: «Der Geist ist Künstler»[330] [подчеркнуто[331] Гегелем. — И. С.].
2.5.4.Позитивную программу переделки отношений между подчиненным и подчиняющим излагает Зосима в беседе «Нечто о господах и слугах и о том, возможно ли господам и слугам стать взаимно по духу братьями» (14, 285 и след.). В концепции Зосимы отправная точка — не слуга, а господин, который по ходу, так сказать, революции сверху обязан принять раба в лоно своей семьи (Федор Павлович игнорирует тот факт, что его лакей — его вероятный сын). Зосима призывает (руководствуясь Евангелием) власть имущего даже сделаться «рабом раба» (14, 288). Таким образом, хозяину жизни предлагается прекратить быть самим собой и в себе:
И почему я не могу быть слугою слуге моему и так, чтобы он даже видел это, и уже безо всякой гордости с моей стороны, а с его — неверия? Почему не быть слуге моему как бы мне родным, так что приму его наконец в семью свою и возрадуюсь сему?
(14, 288)Если для Гегеля сознающее себя самосознание есть «Абсолютный Дух» и Божеское в нас, то Достоевский, напротив, требует от нас выйти из самопогруженности, отвлечься от эстетизирующей мир авторефлексивности, что отвечало бы богоподобной сущности человеческого как уже-другого. Соглашаясь либо не соглашаясь с теми или иными философскими идеями, Достоевский решает две задачи: он демонстрирует несостоятельность литературно-эстетического мышления о мире и разрабатывает программу семейно-церковного устройства общества.
Удаляясь от литературы, Достоевский приближается к философии, но лишь затем, чтобы вырваться и из нее как из чистой дискурсивности[332], — ради мифогенного смешения ее с практикой, ради социальной инженерии, в чем не только берет за образец Гоббса, но и напоминает Маркса, надеявшегося придать философии орудийность. Но если Маркс сакрализовал государство бывших рабов, то Достоевский, одинаково с Марксом взяв за точку мыслительного отсчета Гегеля, освятил государство бывших господ — власть стряхнувшего с себя аристократизм бывшего дворянина Зосимы[333], который стал на путь духовного отцовства. Маркс моделировал переходный к бесклассовому обществу период в виде «диктатуры пролетариата». Для Достоевского, как и для Маркса, важна идея транзитивности. Но у автора «Братьев Карамазовых» время перехода выступает в качестве эпохи господства церкви и ожидания Второго пришествия.