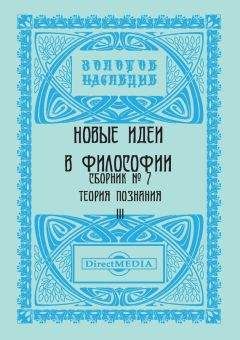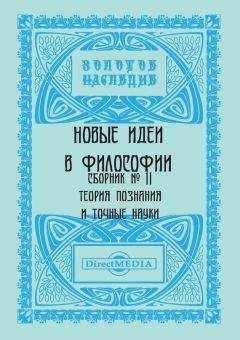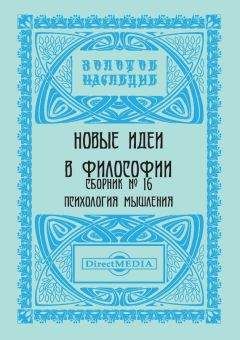Дмитрий Токарев - Курс на худшее: Абсурд как категория текста у Д.Хармса и С.Беккета
Показательно, что это объяснение принадлежит автору, но не отцу, который предпочитает утаить тайну от своих сыновей, обеспокоенных не поисками единственно верного Смысла, а тем, как удовлетворить свое любопытство. В этом они похожи на Уотта, который тоже прежде всего полагался на свой разум[212]. Автор же, напротив, убежден, что путь к Смыслу лежит через отрицание разума и преодоление ограничений, накладываемых телесностью.
Конечно, отец у Введенского ведет себя не совсем так, как, скажем, отец героя «Первой любви» или же отец Хармса: он не только не пытается удержать сыновей в области ложных смыслов, но, напротив, надеется, что они смогут самостоятельно найти дорогу в ту сферу, где разложение смерти побеждается чистотой истинного бытия. Важно другое: отправной точкой этого путешествия в сферу внесмысленного в любом случае является символическая смерть Отца, ибо только она может освободить сыновей от груза прошлого, от времени. И, разумеется, освобождение от отцовской власти невозможно вне поэзии, вне словотворчества: алогический язык является пропуском в мир чудесного, но сыновья, к сожалению, им не владеют.
Для Хармса восстание против власти Отца, власти традиции было прежде всего восстанием поэтическим, ведь именно в поэзии видел он наиболее радикальное средство очищения мира. Не случайно он планировал собрать все «левые» силы в одной организации, объединяющей новаторов в искусстве. Так в 1926 году возникла идея создания организации, которая включала бы в себя не только Хармса и Введенского, но и последователей Казимира Малевича. Организация, согласно предложению Хармса, должна была быть строго иерархичной и состоять из «членов I-го, II-го и III-го разрядов» (Дневники, 550–551). Верховную власть было предложено разделить между признанным лидером авангарда — Малевичем и молодыми ниспровергателями художественных традиций — Введенским и Игорем Бахтеревым. Таким образом, Малевич оказался в меньшинстве; более того, Хармс считает, что новое движение ни в коем случае не должно носить название «УНОВИС» — объединения, созданного Малевичем в Витебске. Фактически Хармс диктует условия объединения и, несмотря на все свое уважение к Малевичу, уготовляет ему декоративную роль Отца-основателя. Другого своего учителя, поэта-заумника Александра Туфанова, под руководством которого он начинал свою поэтическую деятельность, Хармс вообще не видит в рядах новоявленной организации. Власть, до сих пор сконцентрированная в руках Отца, постепенно переходит в руки Сына.
В 1925 году Хармс пишет поэму «Михаилы», которую Туфанов определил, согласно своей «заумной классификации поэтов по кругу», как написанную под углом в 180° градусов; самому Туфанову, однако, была ближе заумь «абстрактная», то есть такая, которой соответствует угол в 360°[213]. Находясь под влиянием трудов художника Михаила Матюшина, Туфанов призывал учиться «расширенному смотрению» и «сочетанием аккордов красочных вызывать ощущения „Сестрорецка“, ненависти, любви, но вне рамок предметности»[214]. Разрушение «рамок предметности» возможно, согласно поэту, за счет создания композиций «фонической музыки из фонем человеческой речи»[215], заумной поэзии, «текучесть» которой будет отражать многообразие мира, взятого в своей целостности. Отныне имеет значение лишь текучее настоящее, отражение которого является целью заумной поэзии и абстрактной живописи.
«Не разглядеть нам мир подробно / Ничтожно все и дробно», — говорится в поэме Введенского «Четыре описания» (1931–1934). В поисках такой поэтической техники, с помощью которой можно было бы преодолеть дробление мира, обэриуты выступают наследниками концепций Туфанова и Матюшина. Если Туфанов говорит о восприятии нелинеарного времени, то Матюшина интересует в первую очередь уход от «периферического изображения природы» и от «плоскостного наблюдения»[216]. Прежде художник видел лишь отдельную монаду, теперь, благодаря расширенному смотрению, у него появилась возможность увидеть «мир без границ и делений».
Он видит текучесть всех форм, — утверждает Матюшин, — и понемногу догадывается, что вся видимость простых тел и форм есть только след высшего организма, который тут же и связан со всей видимостью, как небо с землею[217].
В сущности, речь идет об отказе от горизонтальных связей в пользу связей вертикальных, что подразумевает не только разрушение сюжета и предметности, но и участие художника в процессе божественного миротворения[218].
Отзвук идей Матюшина можно найти в трактате Друскина «Движение», написанном в 1934 году; расширенное смотрение предстает в нем как разрушение последовательности, а значит и времени:
Может, ты скажешь: ты осматриваешь, а другой не осматривает, он видит сразу. Но если он видит сразу, он не видит последовательности. Он видит одно. Поэтому нет последовательности, если кто-либо видит сразу. Также не может соединять тот, кто видит сразу, потому что, соединяя, переходит от одного к другому. Помимо того, сомнительно, чтобы он мог запомнить предыдущее. Ясно, что он в этом и не нуждается.
(Чинари—1, 818)Видение мира как органического целого чрезвычайно характерно также и для Хармса. Органическое мировоззрение, сторонником которого в русской философии был Н. О. Лосский, избегает двух крайних точек зрения в вопросе о формах существования и о познании мира: индивидуализма, отрицающего самостоятельность бытия целого, и универсализма, считающего ценным лишь бытие абсолютного целого в ущерб бытию индивидуальности. Познание, согласно подобному подходу, состоит не только в анализе необходимых связей предмета с другими объектами, но и в созерцании предмета в его «неприкосновенной подлинности»[219], иначе говоря, в его объективной и конкретной предметности. Предмет тем самым, будучи связанным тысячью нитей с окружающим его миром, не теряет своей индивидуальности и остается самоценным объектом познания. В своем письме к Клавдии Пугачевой от 16 октября 1933 года Хармс восклицает:
Я думал о том, как прекрасно все первое! Как прекрасна первая реальность! Прекрасно солнце, и трава, и камень, и вода, и птица, и жук, и муха, и человек. Но так же прекрасны и рюмка, и ножик, и ключ, и гребешок[220].
Такой же объективной предметностью обладает и слово, создающее реальность и в то же время ее отражающее; в том же самом письме, сравнивая «Божественную комедию» и стихотворение Пушкина «Зимняя дорога», поэт пишет:
Великая вещь «Божественная комедия», но и стихотворение «Сквозь волнистые туманы пробирается луна» — не менее велико. Ибо там и там одна и та же чистота, а следовательно, одинаковая близость к реальности, т. е. к самостоятельному существованию. Это уже не просто слова и мысли, напечатанные на бумаге, это вещь такая же реальная, как хрустальный пузырек для чернил, стоящий передо мной на столе. Кажется, эти стихи, ставшие вещью, можно снять с бумаги и бросить в окно, и окно разобьется. Вот что могут сделать слова![221]
Однако такая самостоятельность предмета не значит, что он существует абсолютно независимо от других предметов, и Хармс, как поэт, одаренный мистическим ощущением целостности жизненного потока, не может не почувствовать глубинное единство мира, которое открывается человеку с помощью искусства:
Однако я стал приводить мир в порядок. И вот тут появилось Искусство. Только тут понял я истинную разницу между солнцем и гребешком, но в то же время я узнал, что это одно и то же[222].
В своем ощущении целостности мира Хармс очень близок Казимиру Малевичу. В работе «Супрематизм. 34 рисунка» (1920) художник пишет:
Супрематизм делится на три стадии по числу квадратов — черного, красного и белого, черный период, цветной и белый. В последнем написаны формы белые в белом. Все три периода развития шли с 1913 по 1918 год. Периоды были построены в чисто плоскостном развитии. Основанием их построения было главное экономическое начало одной плоскостью передать силу статики или видимого динамического покоя. Если до сих пор все формы чего бы то ни было выражают эти ощущения осязания не иначе как через множество всевозможных взаимоотношений между собою связанных форм, образующих организм, то в супрематическом достигнуто экономическим геометризмом действие в одной плоскости или объеме. Если всякая форма является выражением чисто утилитарного совершенства, то и супрематическая форма не что иное, как знаки опознанной силы действия утилитарного совершенства наступающего конкретного мира. Форма ясно указывает на динамизм состояния и является как бы дальнейшим указанием пути аэроплану в пространстве не через моторы и не через преодоление пространства разрывающим способом неуклюжей машины чисто катастрофического построения, а плановым включением формы в природоестественное действие. Какие-то магнитные взаимоотношения одной формы, которая, может быть, будет составлена из всех элементов естественных сил взаимоотношений и поэтому не будет нуждаться в моторах, крыльях, колесах, бензине. Ее тело не будет построено из разнообразных организмов, творя целое[223].