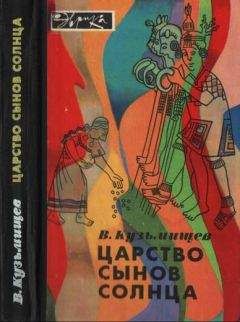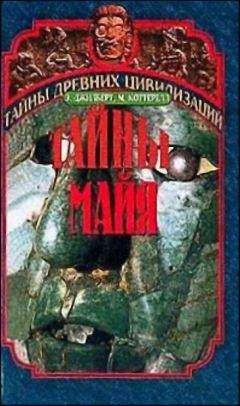Герман Гессе - Магия книги
Как известно, самые дикие атавизмы решительно не могут обходиться без того, чтобы не рядиться в самые современные и прогрессивные одежды. Вот и самое враждебное разуму, самое варварское течение в нашей литературной критике облачилось нынче в доспехи психоанализа.
Следует ли мне вначале поклониться Фрейду и его учению? Следует ли заявить, что этот гений вправе использовать свой метод для исследования любого другого гения? Следует ли напомнить, что в то время, когда споров об учении Фрейда было еще больше, я участвовал в его защите? И должен ли я специально просить читателей не предполагать, что я ополчился на гениального Фрейда и его достижения в теории психологии и практике терапии, если я как о чем-то смехотворном говорю о том, как злоупотребляют основными понятиями Фрейда скудоумные критики и изменившие своей профессии филологи?
Вместе с пропагандой и развитием школы Фрейда, которая, как и прежде, совершает сегодня все новые значительные шаги в исследовании психики и лечении неврозов, и давно уже, много лет назад снискала заслуженное признание почти повсюду; вместе с широкой пропагандой этого учения и все большим проникновением его методов и терминологии в другие гуманитарные науки возник крайне скверный, отвратительный побочный продукт — псевдофрейдовская психология полузнаек и особая разновидность дилетантской литературной критики, которая при рассмотрении произведений литературы использует метод, применяемый Фрейдом в исследовании сновидений и других содержательных элементов бессознательного.
В результате этого «рассмотрения» литераторы, равно некомпетентные в медицине и в гуманитарных науках, не только видят в поэте Ленау душевнобольного, что, впрочем, давно не ново, но и все высшие достижения Ленау и других поэтов ставят на одну доску со снами и фантазиями всех прочих душевнобольных. В поэзии Ленау они изучают комплексы, особо любимые образы или идеи и устанавливают, что поэт относится к какой-либо категории невротиков, они, объясняют шедевр той же причиной, что и клаустрофобию господина Мюллера или болезнь госпожи Майер, страдающей расстройством желудка на нервной почве. Они систематически, с известной мстительностью (желанием обделенных отомстить таланту) отвлекают наше внимание от самих произведений литературы, низводят поэзию до уровня симптомов психических состояний, при истолковании смысла произведений впадают в грубейшие заблуждения, свойственные биографам, во всем отыскивающим рациональность и мораль, они оставляют после себя развалины, усеянные ошметками того, что было содержанием великих литературных произведений, окровавленными и вывалянными в грязи клочьями. И все это они предпринимают, по-видимому, с единственной целью — показать, что и Гете, и Гельдерлин были всего лишь людьми, что и Фауст, и Генрих фон Офтердинген — лишь мило стилизованные маски, прикрывающие вполне заурядную душу со вполне заурядными влечениями.
Они молчат о величии этих произведений и превращают в первоначальную бесформенную материю самые изощренные формы, какие когда-либо были созданы людьми. Молчат и о том все же удивительном явлении, что психическое содержание, которое у нервнобольной фрау Майер проявляется как боли в животе, некоторые другие люди превратили в высокие творения искусства. Нигде не видят феноменов, нигде не видят созданных форм, уникальных, ценных, неповторимых, всюду обнаруживают лишь бесформенное, лишь первичное вещество. Но нам ведь вовсе не нужно такое множество трудоемких исследований, чтобы понять: да, материальная жизнь поэта похожа на жизнь всех прочих людей. А вот о чем мы очень хотели бы узнать — об изумительном чуде, о том, что иногда, в случае отдельного творческого человека, заурядное переживание становится мировой драмой, обыденность — сверкающим чудом, — они не говорят, от этого отвлекают наше внимание. Это, между прочим, прегрешение и по отношению к самому Фрейду, чей гений и чья самобытность уже сегодня для многих его учеников, склонных все упрощать, — что кость в горле. Они, эти недоучившиеся ученики, сбежавшие и пустившиеся в литературные изыскания, забыли о разработанном Фрейдом понятии сублимации. Что же касается ценности этих аналитических изысканий, скажем, для написания биографий и познания психологии поэтов и писателей (вдруг все-таки что-нибудь обнаружится, если не для понимания художественных произведений, так хоть для вспомогательных дисциплин), то она крайне мала и крайне сомнительна. Тот, кто хотя бы однажды подвергся психоанализу или сам провел психоанализ другого человека, знает, что здесь затрачивается масса времени и труда, знает и то, как хитро и упрямо стараются ускользнуть от психоаналитика искомые первопричины, приводящие к вытеснению. Знает он и то, что для проникновения в эти причинные связи необходимо терпеливо выслушивать ничем не стесненные откровения души, деликатно вникать в сны, ошибочные действия и тому подобное. Представим себе, что пациент говорит врачу: «Дорогой мой, у меня нет ни времени, ни желания ходить на ваши сеансы! Вот вам пакет, здесь все мои сны, желания и фантазии, я все записал, кое-что даже в связной форме. Берите этот материал, расшифруйте, извлеките из него все, что вам нужно!» — как бы высмеял врач наивного пациента! Конечно, известны случаи, когда страдающий неврозом человек рисует картины или пишет стихи, — наверное, аналитики ими интересуются и стараются использовать, однако попытки прочесть в подобных источниках сведения о бессознательной жизни человеческой души и ее давнем прошлом любому психоаналитику показались бы в высшей степени наивным и дилетантским притязанием.
Что ж, полуобразованные толкователи поэзии занимаются лишь тем, что вводят в заблуждение своих менее компетентных читателей, представляя дело так, как будто их документальные штудии отдают дань психоанализу Пациент мертв, можно не опасаться проверки, вот они и фантазируют, не зная удержу. Было бы забавно, если бы поднаторевший в психологии литератор в свой черед подверг анализу эти псевдоаналитические изыскания о поэтах, — в результате выявились бы весьма несложные влечения, питающие усердие мнимых психологов.
Не думаю, что сам Фрейд хотя бы отчасти всерьез относится к опусам этих лжеучеников. Не думаю, что мало-мальски серьезный врач или ученый, приверженный психоанализу, читает эти статьи и брошюрки. И все же, вождям стоило бы открыто отстраниться от этой дилетантской возни. Ведь не то плохо, что якобы глубоко обоснованные откровения о тайнах гениев прошлого, якобы тончайшие интерпретации произведений искусства издают в виде книг и брошюр, что появился новый литературный жанр и честолюбивые авторы, несмотря на то что их читают мало, порой пожинают лавры. Неприятно то, что наша критика использует этот дилетантский анализ как новый метод упрощения своих собственных задач и, прикрываясь видимостью некоторой научности, облегчает себе жизнь. Найдем в творчестве не симпатичного нам автора следы комплексов и невротических отклонений, ну так и выставим его перед всем светом как психопата. Конечно, остановится однажды и этот механизм. Когда-нибудь слово «патологический» потеряет свое нынешнее значение. Когда-нибудь откроют, что даже в области болезней и здоровья все относительно, и заключат, что сегодняшние болезни людей завтра станут их здоровым состоянием и что отсутствие болезней не всегда бывает безошибочным симптомом здоровья. Но откроют однажды и ту простую истину, что человеку, одаренному высоким умом и нежными, деликатными чувствами, человеку в высочайшей степени ценному может быть тяжело, даже ужасно жить в современном мире, с его условностью понятий добра и зла, прекрасного и безобразного. И поняв это, снова произведут Гельдерлина и Ницше из психопатов в гении и увидят, что, ничего не достигнув и не продвинувшись вперед, литературоведение вернулось туда, где находилось до появления психоанализа, и что нужно все-таки заниматься гуманитарными исследованиями, применяя их собственные средства и системы, коль скоро желаешь содействовать их развитию.
1930
ЭКСЦЕНТРИЧЕСКИЕ ПОВЕСТИ
«Эксцентрическое» здесь означает не артистическое или литературное, не романтическое, не гротеск, не то, в чем писатель властен по своей воле и прихоти. Фуке со всеми его рассказами о волшебниках и феях — филистер, Тик с его невообразимо безумными выдумками — играющее дитя. Эксцентричен Гофман, ибо он не окрашивал свои сочинения тонами и звуками небывалого и сверхъестественного ради достижения художественных целей, а сам жил одновременно в двух мирах и был вполне убежден, по крайней мере временами, в реальности мира призрачного, или в нереальности того, что зримо. Такой писатель эксцентричен в истинном смысле слова: взгляд его устремлен на мир из некоего другого центра, все вещи и ценности в его поле зрения смещены. К таким писателям относится, прежде всего, Эдгар По, утонченный и меланхоличный американец, в сочинениях которого мы находим почти все оттенки эксцентрического, от вызывающего оторопь журналистского трюкачества до страстной исповеди еретика. Подлинный эксцентрик и Жюль Верн, хотя его, пожалуй, не причислишь безоговорочно к художникам слова. Однако и у него желание сдвигать границы и смотреть на мир с необычных точек зрения не менее сильно, чем у Эдгара По или Гофмана. К эксцентрикам следует отнести, далее, всех приверженцев оккультного знания, мистиков и спиритов, выразивших себя в литературе. Ближе к той грани, за которой начинается обычное писательское мировосприятие, находятся политические фантасты, авторы утопий, причем эти утопии отнюдь не стоит принимать всерьез как художественные произведения; исключение, разумеется, составляет «Гулливер» Свифта, но как раз в нем эксцентрическая форма не существенна, а представляет собой удачно найденную маску.