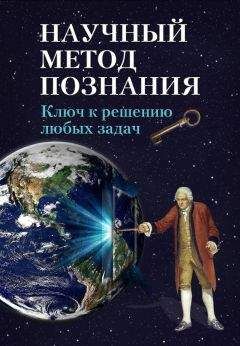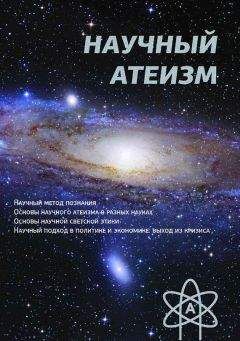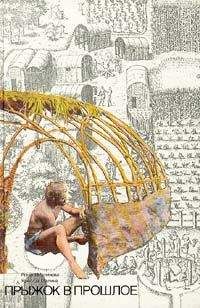Лоренцо Ликальци - Я - нет
Я вернулся в дом, растянулся на циновке и тотчас заснул, провалившись в сон без сновидений.
Впервые с тех пор, как покинул Милан.
XVI. Лаура
Сегодня Лаура назвала меня мамой. Подобное случалось несколько раз, я всегда ее поправляла, прося называть меня тетей, или тетей Лаурой, или просто Лаурой. Сегодня нет, сегодня я позволила ей назвать меня мамой. Она уже очень давно не произносит слова «папа», а я делаю вид что ничего не происходит.
Была минута, когда Франческо меня просто взбесил.
Когда он сказал мне, что ему обязательно надо уехать, я поняла его. Я почувствовала, что это, быть может, единственно правильный поступок, который он должен совершить в этой ситуации. Потому что, особенно в последнее время, он был уже совсем не в себе. Вместо того чтобы взять себя в руки, перебороть горе, он все больше погружался в него, и все это отражалось на девочке. Я сама попросила его привезти ее жить ко мне, поскольку он был не в состоянии ухаживать за ней. Его боль вышла за рамки переживании от утраты Элизы, что-то сломалось в нем, не знаю что, но что-то, что постепенно сжигало его душу, настолько, что он был близок к безумию и вел себя как параноик. Ему следовало бы показаться врачу, но он не хотел и слышать об этом. Всего один раз я спросила, не хотел бы он поговорить с доктором Барди, — он посмотрел на меня с такой презрительной ухмылкой, что я зареклось заводить с ним речь о врачах. Не в его характере пойти и рассказать о своих проблемах психиатру, а в том состоянии, что он пребывал, и подавно! И коль скоро он испытывал потребность уехать я подумала, что это верное решение, что ему так и надо поступить… хотя не знаю… Но я верила, что пройдет месяц, два, может быть, три, и Франческо, затеявший свою поездку исключительно ради того, чтобы побыть одному, вернется, как это с ним однажды уже было. А когда проходили дни, недели и месяцы, а он все не возвращается, я взъярилась.
Я знала подлинную причину моей ярости. Я желала, чтобы он вернулся не к Лауре, а ко мне. Я желала, чтобы он вернулся, потому что до сих пор я люблю его. Бессмысленно отрицать это. Я не переставала его любить. Доктор Барди был прав. Я поняла это после разрыва с Флавио и последовавшей депрессии. Я поняла это по окончании одной моей любовной истории, затем второй — обе закончились крахом по одной и той же причине. И этой причиной был Франческо. Из-за этого я даже не попыталась вернуться к Флавио. Раньше было иначе, раньше мне удавалось скрывать свою любовь даже от себя самой, отстраниться от нее, как формулировал Барди, сублимировать ее в ту жизнь, которая меня устраивала. Осознав это, я осознала и то, что будет несправедливо вернуться к Флавио, притом что он этого хотел, потому что это было бы сродни предательству.
Я предавала бы его каждый день всю оставшуюся жизнь. Прежде, по крайней мере, я предавала только самое себя. То, что я продолжаю любить Франческо, я поняла, еще когда была жива Элиза. Но я не переживала из-за этого, я отстранялась, следя за тем, чтобы не дать ему почувствовать это, я привыкла обходиться без него, отстранение от любви позволяло мне обходиться без него, не страдая, к тому же я прекрасно знала, что в его сердце для меня нет места, оно целиком было занято Элизой.
Но потом… Когда он остался один, предаваясь своему отчаянию, все стало намного сложнее. Психоанализ мне помог. Сначала он был для меня чем-то вроде игры, составляя часть моего «я» как женщины, но не как личности. Выйдя из депрессии, я начала многое видеть в другом свете.
Доктор Барди сказал мне, что болезнь, а речь шла о болезни, разрушила защитные механизмы моей психики, сделала меня способной увидеть, во что превратилась та женщина, что была мною. Она превратилась в тот самый тип, который Франческо на дух не переносил. Я стала такой, чтобы держать его подальше от себя или, быть может, самой держаться подальше от него. Это нужно было, чтобы сказать прежде всего себе самой: видишь, насколько мы разные, как бы я могла опять полюбить его? Может быть, поэтому я вышла замуж за Флавио, а со временем даже полюбила его — или убедила себя, что полюбила, так же как я убедила себя, что больше не люблю Франческо. Я стала женой его брата, чтобы оставаться рядом с ним и в то же время держать его на дистанции. Мне было нелегко согласиться с таким положением вещей. Это был тяжелый и болезненный выбор. И так же тяжело и болезненно было прийти к пониманию, что вся моя жизнь оказалась обусловлена этой единственной огромной любовью. Сказав себе наконец всю правду, я мало-помалу потеряла интерес ко всему, что меня окружало, иными словами, к образу жизни, какой я вела.
Отпала необходимость демонстрировать и себе, и Франческо, который к тому же жил в Нью-Йорке с Элизой, что мы настолько разные, что ни о какой любви нечего и говорить.
Элиза это поняла. Она видела меня насквозь. Перед самой кончиной, однажды, когда Франческо ушел за лекарствами, она подозвала меня к своей постели. Она еле терпела боль, была крайне слаба и едва слышно завела странный разговор.
— Лаура, — сказала она, — когда меня не станет, я хотела бы, чтобы ты помогала Франческо воспитывать девочку.
— Я даже слышать не хочу, когда ты говоришь такое, Элиза! Ты не умрешь!
— Не надо, Лаура, не фальшивь, прошу тебя, не тот момент. Пообещай, что, когда меня больше не будет, ты найдешь время для того, чтобы… чтобы стать ей… как мать… Пусть она даже поживет с тобой некоторое время…
— Со мной? А Франческо? Если, конечно, он… но не думаю…
— О нем я тоже хотела поговорить с тобой…
Она посмотрела мне прямо в глаза.
— Слушаю, — сказала я в замешательстве.
— За Лауру я спокойна, ведь я могу рассчитывать на тебя…
— Можешь, — подтвердила я, — я буду относиться к ней, как если б она была моей дочерью, клянусь тебе!
— Хорошо. Теперь по поводу Франческо… Я хотела бы, чтобы ты была рядом с ним тоже, он в этом будет нуждаться, я боюсь, что он будет страшно переживать, слишком страшно… он такой ранимый… я убеждена, что ты единственный человек, который сможет помочь ему и от которого он согласится принять помощь…
— Конечно, Элиза, я сделаю все, о чем ты просишь, я буду рядом с ним, я бы это сделала в любом случае…
— Я знаю, но я прошу тебя совсем о другом…
Она замолчала. Казалось, она подбирала нужные слово.
— О чем? — спросила я с сильно бьющимся сердцем.
— Я прошу тебя быть рядом с ним… если такому суждено случиться… а я верю, что оно может случиться… рядом с ним в том смысле, в каком ты этого хочешь…
— Как я этого хочу?1 Я тебя не понимаю, — соврала я в ответ, стыдясь своего вранья.
— Да, так, как ты этого хочешь, Лаура… как ты всегда этого хотела…
— Нет, Элиза, не говори так, прошу тебя!
— Но это так, Лаура, я все знаю… И ни в чем тебя не обвиняю. Больше того, когда я все поняла, мне и в голову не пришло обвинять тебя… Я столько всего ценю в тебе… и не собираюсь ни в чем упрекать тебя… я прошу только, чтобы ты была рядом с ним в том смысле, в каком этого хочется тебе… и не думай обо мне… ты меня этим не обидишь… если такому суждено случиться, Лаура… будь с ним так, как тебе хочется… как хочется…
— Но, Элиза…
— Все. Больше мне нечего добавить… мне и так тяжело… не будем больше об этом говорить… я устала… я хочу немного отдохнуть… прости…
Она закрыла глаза, отвернулась к стене и заснула, не сказав больше ни слова.
Сейчас я могу сказать это, не боясь ранить Элизу и не испытывая чувства вины перед нею: да, я желаю возвращения Франческо ради себя, даже если и знаю, что вряд ли между нами может что-либо повториться. Ради себя, а не Ради Лауры. Конечно, Лаура страдала, но гораздо больше из-за смерти мамы, и меньше — из-за отсутствия папы. Или, точнее, того, что осталось от папы после смерти мамы.
Похоже, что с нами Лаура счастлива, она хорошо ладит с моими детьми, особенно с младшим. Охотно или, правильнее, довольно охотно ходит в детсад. Правда, иногда взбрыкивает, и тогда невозможно уговорить ее пойти туда, но таков случается редко. Воспитательница говорит, что она необыкновенная девочка, интровертная, впечатлительная, очень живая, умная, но малообщительная и часто замыкается в себе.
Если использовать лексику воспитательницы, девочка и правда не социализируется. Хотя это не совсем верно. Она прекрасно общается, но лишь с теми, кто ей нравится.
А поскольку, как она мне сказала, ей не нравится почти никто, то и нет способа заставить ее участвовать во всеобщем общении, пусть частично. Она ни с кем не ссорится, в этом смысле я спокойна, но если надо, настоит на своем, без крика и истерик: сдается, она просто безразлична к другим. В общем, вся в отца.
А эта история с пианино? Оно стояло у меня в гостиной, и я видела, как она часто садилась за него и колотила по клавишам так, что хотелось заткнуть уши. Но она проводила за этим занятием целые часы, получая явное удовольствие. Не прошло и месяца после того, как это случилось в первый раз, я услышала, что она наигрывает джингл из какой-то рекламы. Чтобы сыграть этот простенький мотивчик, ей понадобились всего три клавиши. И она прекрасно ими распорядилась: мелодию легко было узнать. Я спросила ее, не хочет ли она брать уроки музыки, она ответила «да». И произошло невероятное: за восемь месяцев обучения она овладела тем, чем не овладевают и проучившиеся два года. Это не мои слова. Это слова ее педагогини. Она сказало мне, что у Лауры врожденный талант, что в ее практике это впервые. Беда только, что девочка часто отвлекается, строптива и неусидчива. Тем не менее, добавила учительница, лучше насильно за пианино ее не усаживать. Потому, что если она хочет, то играет, если нет — ее не заставить. Сейчас, слава богу, у нее период, когда она играет — не отходит от инструмента.